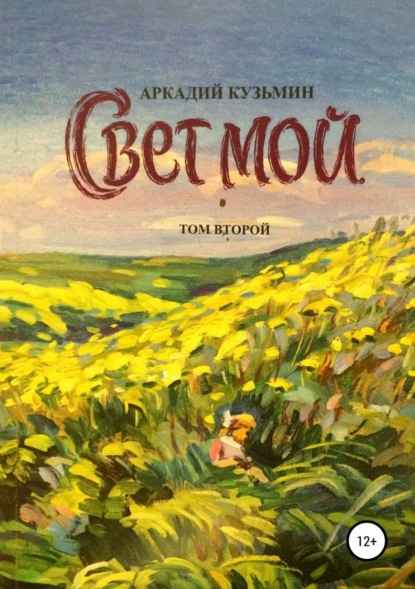По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Свет мой. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
К полуночи нашли ее, завалившуюся блестящую железочку-игрушку.
Стало можно спать спокойнее. Легли.
XXIV
Нагруженный сон стряхнула Анна с глаз тяжелых – распахнулся перед нею рассветный уж денек. Сквозь-то дождевого бисера, загустившего воздух, увидела она колонну шествуемых под конвоем немцев ребятишек. Вгляделась: в ней – Валерка, он беспомощно на нее оглядывался, а других лиц ребят она не разглядела.
Анна все время о нем думала.
И вот Валера шел, уходил от нее по какому-то плоско расплескавшемуся в тумане заливу, и она спешила к сыну по стоячей воде, но ног своих, к радости, не замочила, нет. Однако ее встревожило уже то, что нечто подобное о нем ей приснилось уж второй раз: все ли ладно с ним? У него? Почему он приснился опять? Знать, неспроста так идут какие-то скрытные токи – мысли от него, сердешного… Отстраненного от нас… Мы-то тут, покамест, вместе как-никак.
Валера рос особенным.
Всегда выходило, что при всех возникавших семейных перипетиях, недоразумениях и конфликтах, мелких житейских, сиюминутных или острых, больших, деликатных, Анна чаще старалась подладиться под Валерия, или, точней, приладиться к нему, по возможности щадя его столь ранимо-чувствительное самолюбие, – уж такой упрямствовавший по любому поводу (и защищавшийся ожесточенно) выдался у него характер, предельно обидчивый и хрупкий в соприкосновении с многими разными характерами, доставлявший уже ему самому ненужные, глупые, мальчишеские страдания, причину которых он еще не мог объяснить себе по младости своей. Это требовало хоть какого-то материнского снисхождения к нему. Он с самого малолетства – такой небойкий, нелюдимый и неразговорчивый, особенно сторонившийся назойливо-привязчивых, шумливых чужих людей, – чаще хмурил бровки. Как засядет-запрячется за так надежную на людях спину матери – и уже не даст ей поговорить-то, не то что наговориться, ни с кем: ни с такими же молодухами, ни с прежними товарками, ни с родственницами. Будет тянуть – просить: «Мам, а мам, я чайку, чайку хочу». С избранного места без нее не стронется первым – ни-ни. Если же кто из баб любезно-ласково и предложит ему чайку, то ответит робко, нахохлившись, как птица на суку дерева: «Нет, я дома чаю хочу – из своей синей кружечки… Вы-то понимаете?..»
И кормила Анна грудью Валерия дольше, чем три полагавшиеся, как считалось в народе, поста (пост Великий, пост Спожинки – это в августе, потом опять пост Великий) – даже груди у ней заболели.
Позже повелось иначе. Анна пойдет в поле на работу – молоко перегорит; ребенок (девочка или мальчик), естественно, грудь не берет. Стала каши варить. И не сцеживалась. Раньше этой моды не было: научно никто не предсказывал пользы и необходимости того.
Валерий был светловолосым. Волосы кудрявились. В школе сверстники его прозвали курчавым; из-за этого же остригли его наголо – потому как он не любил, что называли его на девчоночий манер.
Совершенно другой по своему складу была Наташа: росла оторвой на всю деревню. Только отвернешься от нее, а она уже чью-нибудь сердитую корову гладит, наговаривает что-то ей, либо лошадь за хвост тянет. Кто-нибудь уже кричит: «Анна, Анна, погляди, что твоя озорница вытворяет!.. Схвати ее…» Но Анна видит все и встать-то с завалинки не может от страха, не то, чтобы быстро подбежать к малышке, чтоб схватить ее в невредимости… Ладно – смирные животные или просто терпели всякие проказы детские: не поддали ни рогами, ни копытами ни разу, а могли ведь без всякого повода… Но то ведь животные были, а вот тут, под конвоем вражин…
Да, и впрямь случилось с Валерой такое, что не могло не быть.
Было, что бесы-фрицы, покрикивая, опять и опять волокли их торопко – их, сгорбленно-пригнутых мальцов (вместе же с мужиками) – они шагали-скрипели, месили снег, сквозь заровнено-белое поле, выточенное бисером снежинок, загустивших воздух, все открытое пространство вокруг.
Вдруг он, Валера, сошел на обочину и сел в самый снег, глядя на всех гонимых жалостливо и затравленно, что щеночек какой. И вроде бы мать старалась поспеть к нему – она рядышком заноровилась шагать. Вопрошала тихо: «Что ты! Что ты, сынок! Не моги не мочь!»
«Да, – подумал он с печалью, – а если мои ноги не идут – они не слушаются, отказали напрочь; я-то застыл после гиблого перехода, захотел попить – и попил водицы ледяной… Оттого-то ноги отнялись – да и только. Не могу дальше идти…» Он как будто слышал голос матери: «Ну, еще попробуй, мой сынок! Умоляю!.. Уходи! Вставай!»
Почти заслоняя Валерия от Анниного рвущегося взгляда, двигал на него, бессильного, требластый и щетинистый (до синевы) заматерелый конвоир. Прямо-таки дикой растопыркой с карабином. Двухметрового, наверно, роста. Мягкий, взметавшийся снег сапожищами глубил, дырявил. По-немецки, разумеется, он спросил, возвышаясь над Валерой, что такое с ним, поинтересовался хоть. Еще вроде бы по-человечески поступил. Валерий глаза вверх взметнул, сказал ровно (тоже по-немецки), что у него болят ноги (жестом показал на них) и что поэтому идти дальше он не может. Все. Конец.
– W-a-a-as?! – грозой зашелся растопыренный немец, зашипел (дескать, это что еще за новости такие!) и, задев его в детское плечо прикладом карабины, строго-настрого приказал ему опять встать в строй. Да поживей.
Валерий подчинился и, рывком поднявшись, закачавшись, затесался вновь почти в голову колонны, подхваченный и поддержанный многими протянувшимися до него руками, но был все же что надломанный цветок. Ноги у него по-прежнему не шли самостоятельно. Не слушались его.
Очень скоро сполз он снова в середину той мальчишеско-мужицкой лагерной процессии. Колыхались, колыхались одни спины в белой мгле. И опять он вытолкался из колонны с тем, чтобы, верно, больше не мешать своим товарищам и не осложнять им еще длинный путь, и сел в полный снег обочины.
Судорожно снег глотал, захватывая его в пригоршню. Рукой голой, покраснелой, ровно лапка у гусенка. Сильно-нездорово кашлял. И уж не глядел на обомлевшую мать, не успевавшую к нему. Он лишь чувствовал ее присутствие.
Она, мама, отчаянно роняя провалившийся голос, слезно умоляла его привстать скорей. Не злить архаровцев. Она будто спешила к нему для того, чтобы хоть успеть закрыть его собой – распростертым крылом материнским, кровным. А он, голубь несмышленый, глупенький, скашивал на нее по-детски широко печальные глаза и только видел, нисколько не пасуя ни перед чем, как с замедлением точно совершались вокруг действия людей и даже опускались наземь лопоухие снежинки. Тающие на голых руках.
Наступило у него какое-то безразличие ко всему.
В голове его колотилась мысль: «Брысь, брысь, эта тварь поющая «Deutschland, Deutschland, uber alles!» И я еще должен спину гнуть на них, что ли?! Ничуть не бывало! Не хочу! Проще же простого, как оказывается, все. Вот стоишь, хоть и на коленях, и думаешь: нет, это не со мною происходит – и не я совсем стою здесь, на самом краю, с которого можно сгинуть вот-вот. Да не может быть! Ведь я люблю маму, жизнь. Этого не может быть! Но я больше не могу, прости…
А уж моментально – что? – на Валерия надвинулся прямой, усеченный вдоль унтер-офицер, старший конвоиров, и нахмуренно спросил в свою очередь, warum он, лагерник, сидит. В таких перегонах лагерникам запрещалось отдыхать и жаловаться на болезни. Боже упаси! Но Валерий этим пренебрег: совсем безбоязненно, не зная страха, как и в предыдущий раз, он сказал, что он krank – болят ноги. Тогда молча дернул унтер-офицер своим плечом, скидывая на руки себе черный автомат; хотел он, безусловно, без излишних разговоров полоснуть сидящего больного, только и всего. По привычке, заведенной у нацистов. Ни себе, так и не людям. Вот и все. Он даже из себя не вышел, не залаял.
Только, к счастью, прежде, чем палач изловчился с автоматом своим, позади возник нарастающий шум – и с гиканьем, что заставило его с неудовольствием посторониться, даже отскочить, чтоб не быть задавленным, едва он обернулся – прямо на него неслось под крики на дровнях в белом густом пару нагнавшее колонну конное воинство немецкое. Передние большие и полупустые розвальни притормозились подле. И сидевшая в них важная фигура под шубой немногословно, кивнув на Валерия, о чем-то переговорила с остолбенелым унтер-офицером. И тот затем приказал Валерию немедленно сесть в розвальни. Валерий, дотащившись-дотянувшись, влез в них, и лошади опять рванули с места быстро, замелькав копытами, вскидывая охлопья снега. Понеслись, спасая человека, сына матери.
Повезло!
Это были, конечно же, австрийцы, которые тотчас проявили чувство сострадания к попавшему в беду русскому мальчонке. И в этом отношении справедливо сразу ж и пошла в нашем народе молва о присущей подневольным австрийцам гуманности и потому-то даже возникли сочувствие и симпатии к ним. Взаимные. Чего не скажешь о других немецких служаках – не немцев: увы, тем – и ничем! – другие, за редким исключением, не отличались заметно от поведения на Востоке у нас самих немцев. Что есть, то есть.
Сердце Анны учащенно билось. Она его чувствовала.
«Значит, меня родные стены уже зовут, по мне скучают, – мелькнула мысль в ее сознании. – И откуда? Где же это я? С детьми? Если мы еще не дома, то пора, пора нам возвращаться! Уж откладывать нам больше нечего».
– Я вас не спешу, – потайно нашептывал ей кто-то. – Не спешу. Поспи.
И знакомая чем-то молодоглазая старушечка ласково твердила ей, обозначаясь в пепельной предрассветной мгле:
– Ничего, родная, образумится еще. Не тужи, родная.
«Что же, сплю я?!» – И она встряхнулась и совсем проснулась.
О Валерии вновь подумала. Что там с ним? Жив ли он? Душа у ней болела так невыносимо!
XXV
Не только Анну – всех сидельцев в бункере била мелкая дрожь при воспоминании вечерней угрозы гитлеровцев. И поэтому-то спозаранку никто уже не спал, когда троица воинственно настроенных солдат, которые расправой пригрозили – и, наверное, не ради только красного словца, не с тем, чтобы только припугнуть, точно заявились в бункер, чтобы либо получить назад свою бесценную безделицу, либо в точности-таки, без всяких разглагольств, покончить с этим сбродом невоспитанным. В наказание. Они пунктуальны в том. Они ради волеисполнения завоевателей пришли – перед тем, как им, последним, выехать отсюда, из леска. Потому они особенно опасны были. Как, пожалуй, никогда. После еще Сталинграда, надо знать… Не зря предупреждал Федор вчера.
И когда, жалко извиняясь за вчерашнее, Галька-переводчица им вернула зажигалку, они вновь не церемонились, не поблагодарили – по-всякому пообзывали напоследок девок, женщин и детей. И то было ладно: хоть они не тронули, не растерзали никого; по крайней мере, все избегли смерти неминучей, злой, еще раз прошедшей впритык мимо. Уф! Не сразу дрожь унялась…
После этого Анна и дала себе зарок выбраться домой на завтра же. Нельзя было дальше медлить, хоть и тяжело решиться на такое. Чему уж быть…
Может, это было у ней на роду написано, что ей было тяжело всегда, сколько она ни жила, но иного она уже не ждала от жизни, и что вследствие этого она всегда хотела найти как-то всякий выход из всего (хотя сейчас она ничуть не тешила себя легкостью и безопасностью обратного пути домой, а больше думала о трудностях); а может, это было в ней от Василия, передалось ей от него – какое-то высшее чувство, которое ее сейчас поторапливало и придавало ей и ее детям, державшим совет вместе, уверенность в необходимости затеянного ими предприятия. И это важное чувство уже завладело и руководило ими полностью.
А ведь истерзалась и истосковалась здесь она уже досыта, даже только еще здесь, еще не на чужбине – ее-то она не вынесла бы просто.
Солнце горело все сильней, не скупясь; воробьи качали тонкие простертые веточки деревьев, деятельно перепархивая с одной на другую и пощелкивая с азартом. А дел дома накопилось уйма, уйма. И Анна присказывала вслух с отчаянием:
– Какой день! Какой нынче день! – словно бы в укор себе и всем.
И немецкие обозы, сказывали карповские бабы, уже потянулись к югу, верно, к Вязьме, – немцы отступали, слава богу; и мороз ослабился, мог совсем сломаться, отпустить дороги грунтовые – и тогда по ним ни пройти и ни проехать, жди – сиди; и конина, и мука уже кончились – муки осталось столько, чтоб испечь в дорогу каждому по полторы, по две лепешки лишь.
Уж заваривали, точно чай, вместо заварки, прямо в кружки крошки хлебные, сухарные; разделив на части, Анна насыпала из мешочков горстки крошек этих на ладошки; заварив их в кипятке, пили этот хлебный чай, или суп, с удовольствием – было очень вкусно. Крошки тоже были сладки: пахло хлебушком незаменимым – ведь ничего приятнее и аппетитнее хлеба для ребят в детстве не было. Именно упругого ноздреватого хлеба, еще теплого, с закалиной… Такой хлеб прежде почти каждая хозяйка выпекала в своей печке. Анне приходилось его печь буквально через день… Добывать же здесь теперь какие-то продукты для того, чтобы еще продлить и поддержать свое существование, не удавалось, так как было невозможно, а не то, что не везло добытчикам – ребятам. А дома как-никак еще остались, хоть и небольшие, запасы зеленой квашеной капусты, картофельные сушеные очистки, зарытого картофеля, зарытой ржи.
И, значит, нужно было поскорей в свои края подаваться. Подаваться глухими проселочными дорогами, пока их не развезло и чтобы поэтому было бы меньше встреч с отступающими по большаку немецкими частями…
Анна внутренне удовлетворилась лишь тогда, когда она с детьми до этого домыслилась и довершилась – что надо, не откладывая, выйти завтра раным-рано, с тем, чтобы успеть засветло пройти как можно большее расстояние. Вместе с тем и очень чудно было то, что советчики оставили в покое их, не присоединившись к ним: была большая вероятность беспрепятственней меньшому количеству людей проскочить меж немцами.
Правда, кто-то из баб неугомонных еще хотел повлиять – и Анну задержать, да Голихин воспротивился:
– Че тебе? Больше других надо? Не лезь – сиди, помалкивай.
Пойми его…