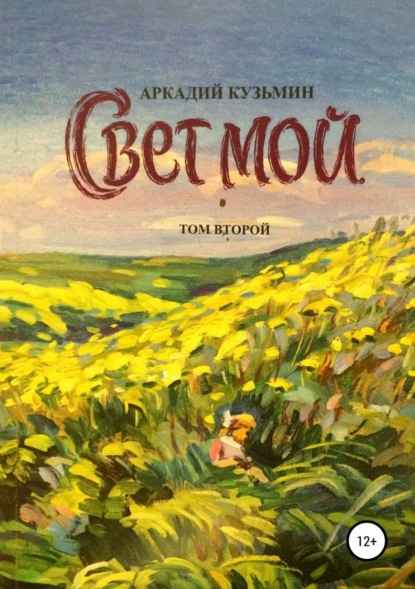По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Свет мой. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Что там, трефа?
– Козырнули. Козырнули.
– Я почему и сказала: своих бей всегда.
– Что же теперь делать?
– Брать! Бери все! Нет, я буду играть.
– На трефа?
– На трефа.
– Я пошла. Пожалуйста…
– А-а! Что ты делаешь, бессовестная!
– Что я делаю? С бубей я пошла.
– Ой! Ой!
Под вязанье Наташа вполголоса проникновенно запела свой любимейший романс:
«Мой костер в тумане светит,
Искры гаснут на лету.
Ночью здесь никто меня не встретит,
Мы простимся на мосту».
XVIII
Антон удивительно не знал, почему, но сейчас, когда он слышал, или точнее, слушал звуки этой песни, которую его певучая сестра столь задушевно-искренне пела, не фальшивя, признавали все, ни в единой нотке, и благодаря которым словно по волшебству вдруг повернулись в невидимых лучах, заблистав и обозначившись во всей полноте, вплоть до тонкой паутинки, грани чего-то невозвратимого прошлого, – звуки этой песни порождали в нем какие-то необычайные, рвущиеся изнутри мысли и сомнения относительно всего, что было с ними всеми и что, главное, противоречило его, хоть и детским, незначительным, понятиям разума и целесообразности. Почему Наташа столь стихийно всегда стремилась на тот мост, представлявшийся ему одним знакомым мостом через речку Лочу, где в прежние времена по ночам водились, сказывали, черти? И вот почему все это вызывало у поющей и у слушателей, было видно, столько неизбывной грусти? Что – от неизменности этой существующей у людей несправедливости? Так для чего же она существует? Совершенно непонятно, зачем должно умереть то, что есть, живет? Все равно, что человек, что лепесточек.
Он, Антон, только так понимал, что не должно никак умереть все то, что с ним живет. Как так умереть?! Иначе – зачем же тогда жизнь? Этот живой мир был для него неделим, как он воспринимал его особенно, подверженный болезненно-активному принятию гармонии всех красок, звуков окружающей природы. Влюбленный до безумия в нее, он лишь распахивал, бывало, ранним утром дверь – и все представало перед ним открытием в теплом розовом свете дня, было ль то зимой или летом, и все было напоено большим счастьем дома, над которым еще хотелось приподняться еще чуточку, хоть на цыпочках, и заглянуть куда-то подальше чуточку.
Теперь оно, счастье то, в Антоновом понятии никак не было отделимо от безвозвратно минувшего общения с отцом, отделимо даже от его бесчисленных рассказов, которые он увлекательно, сидя на завалинке в летние вечера, рассказывал детворе, поджимавшей под себя зябкие босые ноги. Казалось тогда, что и что-то таинственно черное, безобразно-пугающее и прекрасное, придвинувшись отовсюду вплоть к избе, стояло невдалеке, завороженно прислушивалось к его голосу.
– Господи, помилуй и спаси: опять их принесло! – устрашаясь, бухнул кто-то. Поднялась в землянке тревога необъявленная. – Принесло на нашу голову!
И припали выселенцы к двери и оконцу, созерцая немцев в щелочки-просветы из своей землянки. Шикали на девок одержимых, непутевых:
– Тихо! Полно, басурманки, лязготать-трескотать! Все не наверещались?
Но уж те – в отличном настроении послеобеденном – ломались:
– Что, принес сюда кого-то кто-то? А кого?
– Да опять солдатики-соседи. На машине, вишь, подчалили.
– Поглазеем тоже мы на них. Интересно. Хоть одним глазком…
– А-а, наши красавчики! Нам красавчиков подайте! Ха-ха-ха!
Еще их стыдили-устыжали. Бесполезный номер.
– Вам-то что? – кривоножка Лидка Шутова улыбалась ясно, как ни в чем не бывало. Как святой ягненок. – Может, я большой зуб на них имею, положила. Что, нельзя? Вам нельзя: вы – старые; мне все можно – пока молодая я.
– Эх, и дурья же башка у вас – непричесанная, неприглаженная! – сказал, вздохнув, Егор Силантьев, серогривый мужик шестидесятилетний. – Все вам, пустобрешкам, шуточки негожие и пакости. Несознательность одна!..
– А что, запрещено? Если время нам покрасоваться… Лучшего не будет… И вы нам не указ… Сами не безгрешны: рыльце замарали. Хуже баб трусливы. Выйти не решаетесь. Так и выпустите нас, несознательных девиц, к красавчикам. Больно надоело нам сидеть за вашими запорами. К чему они?
Безвредный мужик Силантьев лишь пожал плечами. Откровеннее не скажешь. А его не безвредный напарник, Голихин Семен, развивавший в себе дар счастливо выворачиваться, когда припирало сильно, вслух уже толково развивал: как, не лучше ли теперь открыто показаться на глаза солдатам, уже видевшим их здесь.
– Да, я все же рискну – выйду, дров им наколю, ублажу хоть чем-то… – И он, выпершись за дверь, на белый свет, и жмурясь, пошел прямо к ним. Какой-то вислоухий, полежалый – в растопыренной ушанке и пальто подватенном. Шкробающий валенками.
И с успокоением беглецы наблюдали из укрытия за тем, как он солидно, знающе предложил немцам свои услуги – единственно ради того, чтобы задобрить их на всякий случай, и тут же занялся пилением и колением дров и как естественно-просто, что должное, это восприняли солдаты – они нисколько не косились на невесть откуда появившегося перед ними мужика. Им, солдатам, казалось, было не до русских. Но, правда, только до тех пор, пока не выпорхнули к ним божьи птички – Лидка и ее подружка Галька-переводчица. Те, строя им надлежащие улыбки и оживленно разговаривая с ними, явно стосковались по таким делам, повели себя независимо-свободно и без всякого посредничества Голихина. Вот, воистину, не знаешь, где найдешь, где потеряешь.
Так между беглыми выселенцами и еще соседствующими, к сожалению, немецкими солдатами, с которыми пока поневоле приходилось сладить как-то, чтоб не навредить себе по-глупому, легко завязались какие-то вполне определенно-преимущественные отношения, и с этой стороны отпало у беглецов беспокойство быть как на огне; прячущихся беглецов очень устраивало то, что вследствие этого они, не открываясь, кто такие, вроде бы несколько подстраховались и обезопасили себя, а солдат в неменьшей, кажется, мере устраивало то, что так они заручились готовностью русских женщин постирать им белье да почистить картошку для обедов тут, в лесу, на кухне, кроме еще щекочуще-интригующей возможности теперь и поволочиться, поразвлечься, стало быть.
Главное, солдаты ничего не выясняли в явно подозрительном вторжении в их стан русских семей, шум не подымали из-за этого и никак не конфликтовали; напротив, они, лояльно как будто расположенные или настолько поглощенные какими-то военными делами, обещали взамен – в виде оплаты за работу на них – давать свой хлеб и конфеты «Бон-бонс» к чаю. Очевидно, все они прекрасно уж насведомились о том, сколь сильно голодали местные. И на этом, собственно, солдаты строили попутно непредосудительный солдатский бизнес: извлекали небольшую пользу для себя. Каждому – свое.
И еще кой-кто из беглецов, поуспокоившись и осмелев, высунул нос на ласковое предвесеннее солнышко.
XIX
Затем подъехала сюда, в прогалину, с хрустом разрезая колесами чистый наметенный снег, впряженная в двойку средней упитанности каурых бесхвостых битюгов, квадратная бело-серая, в разводьях, походная кухня.
Возницей ее был смугловатый невысокого роста, в годах уже человек с грубоватым, тяжеловатым и раздвоенным подбородком, чисто и правильно говоривший по-русски и одетый в затасканную серую красноармейскую шинель, – пленный, как оказалось, красноармеец. Общительный, видно, но внутренне очень собранный и осторожный, он сам об этом сказал благожелательно, едва увидал здесь своих, гражданских, – женщин и детей – после того как, оставив лошадей кормиться сеном, зашел в землянку перемолвиться по душам с людьми, встретившими незнакомца угрюмо, настороженно-натянуто.
Он упреждающе сказал, что ненадобно его пужаться так – он не провокатор, не холуй какой-нибудь – только кухню с варевом на фронт немцам возит; они доверяют это, потому как у них уже истощаются людские ресурсы, видимо. Накладно воевать становится. Не прогулка маршем.
Незнакомец был серьезен. Он не преуменьшал значение того, о чем говорил, для себя, для окружающих.
Неизвестный правду говорил – можно было ему верить. Да, население уже нагляделось на все извивы, выкрутасы завоевателей. В большой ставке выиграть кампанию, не проиграть, ясно ведь, годилось все; были хороши все средства, какие только могли этому способствовать. Хотя в выигрыш, в успех уже мало кто и среди них, по-моему, верил. Хотя из-за неблагоприятно наметившегося для них поворота всей войны военизированные до зубов немцы еще более ужесточили свое негуманное отношение к военнопленным, которых стало много меньше попадать к ним в плен, но тем не менее они использовали частично последних в качестве нелагерной подсобной силы под присмотром.
– А вы нам не скажете, далеко же ездить с кухней вам приходится? – с волнением спросила Анна, обнаружив в себе случаем проснувшийся повышенно-особый интерес к тому, что уловил из сказанного ее слух. И придвинулась вплоть почти к вошедшему, представившемуся возничим–пленным. – Я хочу только спросить, где же фронт сейчас, вы не знаете, – стоит там же, где и прежде или сдвинулся?.. Ну, пожалуйста, садитесь вот… – глазами ему указала, куда можно сесть. – В ногах правды нету. – И присела тоже около вслед за ним – на доски лошадиного стойла.
– Да, уж будьте добры, вы скажите нам за ради бога, если знаете! – жадно обступили его с просьбой женщины, как опомнившись.
– Ну, известно, знаю кое-что… Ездим мы во Ржев, под Волгу.
– И давно оттуда, гражданин? Или как еще вас называть? – Анна даже дышать перестала, в глаза ему засматривала зорче: было-то в землянке темновато, непроглядно…
– А вот только что, сейчас. Меня Федором зовут.
– Ах, Федором? И что ж, они еще не смазывают пятки, нет? Господи, помилуй!