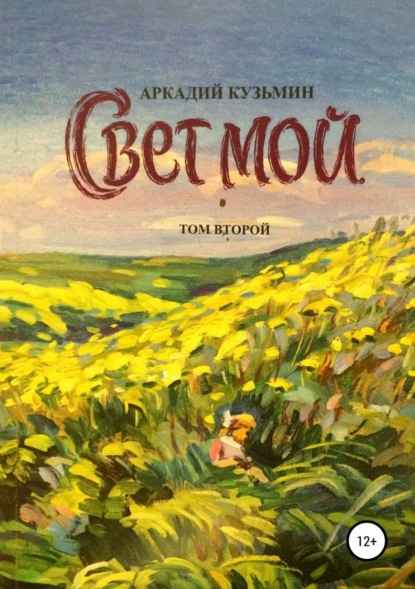По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Свет мой. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет, Макаровна, не можем взять, сама понимаешь, не взыщи… С детьми… У тебя ведь столько их – ого! Не сосчитать…
И недвусмысленно взглянул на ее детвору.
– Но ведь Шутовых берете, кажется? – Анна наступала, ополчаясь на него, выходящего всегда сухим из воды. Вот тебе и недотепа. Не наделает ошибок.
– Упросили они раньше, – осклабился Семен.
– Где одни, там и другие, думаю, Семен Прокофьевич. Мы не стесним.
– Ой, прямо я не знаю… Тут всяк по себе.
– Пожалели бы хотя.
– Всех не ужалеть. – И он повернулся спиной к ней – мигом затворился наглухо. Залез в свою непробивную раковину.
Анна точно незаслуженную плюху получила от него, и ей было за себя обидно: никакой помощи от однодеревенских мужиков, когда это крайне нужно, когда больше невмоготу, а не то, что попросту приспичило. Похоже, она влипла подобно тому, как тогда – девочкой – в засасывающую жижу, только теперь уж никто из мужчин не спешил к ней на выручку, чтобы вытащить. Обидно. А она ведь откликалась, бывало, ни с чем не считаясь, если нужно было всем помочь. И такое было. Оттого, конечно же, расстроилась опять (нервы, нервы подводили – вся расхлябалась); как так можно?! Не могла взять в толк. Но, признаться, уж и зло ее взяло. Довольно деликатничать: терять им больше нечего – она с ребятами намерена пойти туда, куда пойдут Семен, Егор, нашедшие наверняка что-то подходящее для спасения – пойти наперекор… Все закономерно, правильно. С них не убудет. Нет, правду говорят: тот, кто родился со звездочкой, тот и околеет с лысинкой.
И она тотчас будто почву под ногами обрела, почувствовав себя уверенней.
XIV
В полусумраке Кашины, уже не выпускавшие из поля зрения навострившихся бежать мужиков со своими семьями, тоже снялись – с предосторожностью – следом за ними – из дырявого кругом сарая. А за Кашиными снова увязалась невестка Большая Марья со своими домашними, извинительно сказав:
– Хоть сзади, да в том же стаде.
Началась нелепая погоня, угодившая куда-то в мутный простор, что расступился прямо от ворот сарая, – простор, словно застилаемый дымом, оттого, что ветер нес и крутил снег. Полого скатывалась поляна в просторный овраг, заросший деревьями с провислыми заснеженными ветками. Беглецы не останавливались, стараясь как можно скорей скрыться незамечено отсюда.
Гонка всех изматывала.
– Что? Вы все налицо? Не молчите, если что… – и только оглянулась Анна раз, бежа, поймав взгляд Антона. – А Катя-то ваша где? Катю-то забыли?!
– Там сказали люди: им сподручней вместе всем… – отвечал Антон.
Анна оглянулась также и потому, что ей нужно было во всем разобраться. Пока это было у нее на первом плане. Не отодвигалось. Вызывало цеплявшиеся за все мысли. Ей хотелось поскорей их разрешить с самой собой, со своей совестью.
– Но, но, но! – напустился на преследователей издосадованный, вне себя, Голихин – лишь когда все ссыпались по снегу, как горох, в овраг; резким тонким женским голосом воззвал вдруг к бабьей совести, раскудахтался: – Рветесь на готовенькое, а?! Стыдитесь! Елки-палки… Мы вас приглашали?!
Анна же горестно молчала, тяжело дыша от перебежки, – не хотела говорить бесплодно с ним и вымаливать себе уступку – в сущности, у вздорного и ломливого мужика, с которым у нее давно разошлись пути-дорожки. А была бы сейчас Поля рядом – та бы его живо осадила. А то, ишь, страдания всесветные: не подпускал к себе – берегся как.
И вот еще один рывок. Плавали в снегу по пояс. На хвосте все время удиравшей вперед группы, предводительствуемой мужиками. Черные и обметеленные однобоко стволы деревьев, точно смещаясь, путались с темными застревавшими фигурками людей. Но скоро все беглецы, проплутав, домчались к своей цели: над овражьим, невысоким склоном вспучилась обширная землянка – и заманчиво в темноте виднелись вход в нее с дверью и оконце даже.
Все обрадованно, стараясь не шуметь, спотыкаясь и шикая друг на друга, полезли внутрь землянки; здесь-то и Семен даже помалкивал и не упорствовал – не рисковал быть особенно шумливым. Тем более, что землянка вместила с лихвой всех тридцать с лишним человек сбежавших (Наташа подсчитала быстро). Такой вместительной она была потому, что недавно в нее немцы тоже ставили своих лошадей: она на стойла разделялась. Однако конюшенные запахи уже повыветрились, выстудились из нее, а дощатые стойла были достаточно чисты, сухи и удобны для того, чтобы их использовать в качестве кроватей. Чтобы было мягче в них лежать и спать, нужно было только застелить их чем-нибудь, хотя бы еловыми ветками.
Так и сделали, позавесив тряпками оконце и дверь, и зажгли плошки. Правда, здесь же преуспели самые ухватистые – люди с безнадежной глупостью и с некоторой еще вольностью ума, думающие, что теперь уж дозволяется им все, что ни захочется: впрок позахватили себе столько места, что для тех, кто последними в такой компании поспел, не досталось почти ничего.
Анна не могла смириться с этим и сказала только:
– Куда класть детей? Может быть, удельные князья все-таки подвинутся?
На нее накинулись. И пошло-поехало. Накалились страсти. А, в конце концов, хапуги согласились, потеснились – только после того, как Голихин, опять, будто став решающей фигурой в столь разноголосом женском царстве, для внушительности пульнул матом: каждая семья завладела одним отделением конюшни.
Вследствие негожего подобного распределения Анна со своей самой многодушной семьей, – она не отделяла от себя Дуняшку и ее ребенка, – удовольствовалась тоже, как семья невестки, Большой Марьи, тем, что всем им, для того, чтобы поместиться в нешироком стойле, пришлось лечь поперек, а не вдоль, как легли другие беглецы, и спать полусидя, или подбирая ноги. Но и этим-то они обрадованы были чрезвычайно. Ведь впервые, после лютой двухдневной гонки на февральском ветру, они могли выспаться почти по-человечески, в каком ни на есть тепле, распространяемом от печки, под которую у немцев была приспособлена стоймя обычная железная бочка из-под бензина. Ее разожгли, едва набрали в леске хвороста и подходящих дров; она весело трещала и гудела. Да вдобавок славно напились (отчего согрелись, наконец) кипятку, который на ней вскипятили в ведре, в бидончиках, – внизу текла речка и на ней была прорубь, не затянутая льдом.
А за ночь возле жаркой печи и можно было высушить одежду, валенки. Впрочем, в тепле одежда отлично сохла и на спящем, – ее и так не хватало для того, чтобы накрыться всем. Поэтому права была Дуня, которая, торкнувшись в стойло, блаженно проговорила:
– Господи, какое счастье! – и тотчас стала засыпать, хоть и подкашливала натужно.
Все убаюканные теплом, тишиной, успокоились, угомонились. А Анна еще долго, слыша посапывание, всхрап и метанье во сне и не зная, спит ли сама, нет-нет и спрашивала тихим голосом, привстав:
– Дуня, где ты? Наташенька, ты тут? С нами? Танечка! Верочка! – как бредила. И, как в бреду, ощупывала осторожно детей руками; и, наклоняясь над самыми их лицами, прислушивалась к их ритмичному дыханию и сонным вздрагиваниям и вздыхала.
Меньшая, Таня, как привыкла во время бомбежек спать, цепко держась за руку Наташину, – она боялась, что ее бросят, оставят, потому что мать иногда вгорячах говорила, чтоб пропали они дети, – так и спала теперь, в этой заглубленной конюшне, не выпуская руки старшей сестры. Неспокойно спала так и вздрагивала. Она все задыхалась в своей землянке. Не хватало воздуха. Но когда ей предлагали: «Ну, выйди на свежий воздух, подыши», она и тогда не выпускала Наташину руку.
Где-то совсем в другом – поднебесном – мире завывало и вихрило, и Анну сейчас же бросало в дрожь от одного лишь представления о том, что же происходит с людьми в сарае без защитительных стен. И оттого, что посчастливилось им попасть сюда, она сильней печалилась и жалела добрую золовку. Каково-то ей? Где теперь она?
А потом Анна совсем хорошее увидела: она, довольная, командуя своей малышней, грабила сено, чтобы до дождя переворошить его и убрать в сарай, и ноги ее легко скользили по теплым мягким валкам, и пахло медово кашкой. А на обед должен был с работы прийти Василий – она торопилась, чтоб успеть до его прихода.
С рассветом беспокойство овладело каждым, кто мог думать, кто способен был соображать. Что, как там, в пункте сбора, недосчитавшись, их уже хватились – подняли тревогу, рыщут? Как, куда бежать? Когда собственно в мешке… куда незвано затесались сами, точно овцы. Если еще эти немцы из того незамеченного ночью блиндажа, в совершенной близости отсюда, всякую теперь минуту – так и жди – могли обнаружить их в собственных владениях и шугануть их с наслаждением. Сейчас никуда уже не выскочишь, не перетащишься; видно, нужно затаиться здесь, переждать немного суету. Положиться на «авось». Ох, и горькие ж головушки! Головушки еще гудели – от ветрового двухдневного напора на шагавших по юру… И страдальцев еще пошатывало на ногах…
Бабы даже и не сразу пришли в себя и поняли, что поскуливал здесь тоненько ребенок чей-то. Но вскоре завозмущались:
– Где же это мать? Дите плачет – она не успокоит!
А он – это Славик был, сжавшись комочком, почти у самой-то двери, замерз вместе с матерью. А как взяли его к нагретой печке, тотчас и замолчал.
И Дуня добавила себе простуду: горела вся. Покалывало у нее в груди: плеврит. Зато новый день голубел в довольном успокоении. Велик. Чуткая звенящая тишина стояла на воле.
XV
Это трудно описать. Как подглядывали, затаив дыхание, приникая к дверным щелочкам да к отдушинкам в окошке, обращенном на юг тоже, – за тремя серо-зелеными, что привидения, солдатами, которых опасались; как те, будто бы догадываясь о присутствии в своей конюшне русских, но скользя лишь равнодушными глазами, если попадали сюда взглядом, буднично-размеренно здесь жили, хаживали, умывались, чистились, дрова кололи, заворачивали в уборную; как они потом повсаживались в вездеход, выкатившийся прямо перед самым носом наблюдавших, и умчались на нем наспех. Им, похоже, никакого дела не было до русских. Не было и все. Они заняты совсем другим.
Однако не поверилось: неужели то возможно? Пока, значит, пронесло? Не очухались немцы еще? С утречка пораньше… Нет, не может быть! Только первый нервный шок у всех прошел; народ снова стал кумекать, сообща прикидывать. Хотя мнений было много, старшие порассудили быстро, что к чему: может, даже к лучшему, что так, что в таком неожиданном соседстве очутились – сюда мало кто и сунется, – надежное укрытие; только нужно высидеть потише, без особенной на то нужды на виду не дрызгаться, не пялиться, чтоб не подвести под монастырь всех до единого.
И воодушевившийся теперь Голихин возгласил: «Это бабы должны последить за ребятами своими. Ясно сказано?» Ясней было некуда.
Он, словно покровительствуя вынужденно, метил в Анну и отчасти в Марью, – все косился на них, уязвленный их своевольной независимостью, вроде б ущемлявшей его роль. Но и пусть себе!
Несомненно он старался, как и прежде, уберечь себя от всех случайностей судьбы; но объективно будто выходило: беспокоился за общество, за всех. Он все-таки какой-никакой мужик. И, поскольку они, исстрадавшиеся бабы, лучше его понимали сами, что и почему теперь всех соединило здесь, несмотря на то, что люди в оккупации нанесли друг другу множество непрощаемых вовек обид и оскорблений, они нынче соглашались с ним охотно в том, что касалось общей безопасности – признавая за ним некоторое превосходство в мере ее соблюдения, даже полагались на него, его верховодство над всеми. Все-таки никто не хотел подзалететь, попасться в лапы гитлеровцев по-дурному. Именно теперь.
Ну, и надо было как-то дальше жить; не ждать, пока манна небесная сама упадет с небес. Прямо в руки… Так бы ничего вовек не получилось. Можно запросто умереть.
С насторожением высунули нос на запеленатую, заколдованную нынче улицу. Благо соседствующие немцы залимонились куда-то – и рядом не было покамест лишних глаз. Перво-наперво натаскали дров, водички из проруби; растопили бочку-печку (она затрещала, защелкала) – бабы стали на ней кипяток готовить да лепешки печь. Пекли их простым и самым подходящим, придуманным кем-то способом: так, верхнюю плоскость раскаленной бочки посыпали чуть крупномолотой мукой, а на слой ее уже клали кружочки теста – и лепешки пропекались, не прижариваясь и без масла. Лучше было не придумать.
Худым только оборачивалось то, что все ощетинились, порастопырялись в землянке; каждый гнул свое – и к печке было-то не подступиться совестливым и стыдливым. Все-то были предоставлены самим себе. И кой-кто еще кочевряжился – подстать Голихину и с его, должно быть, легкой руки. Не стыдно было.
Анну и Наташу, и Большую Марью от жаром полыхавшей печки оттесняли – лишний раз не сунешься к ней. На скандал нарвешься… Потому как не случайно молодухи дребезжали:
– Вы не лезьте перед нами! Нечего! Вперлись сюда на чужое, черти полосатые, как нахлебники… После нас валяйте, после нас! Жарьте, кипятите… А пока и можно тихо посидеть… Подождать…