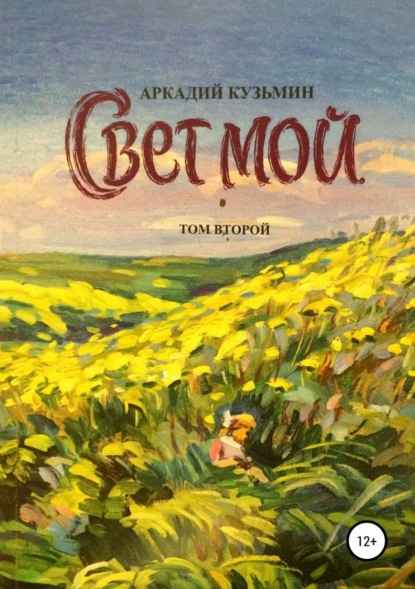По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Свет мой. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да, то прежде, с начала войны, – не терпелось ей сказать, – говоруны внушали всем: дескать, в случае чего – сидите лучше дома, так как через печку бомба не пройдет и не достанет. Но береженого, говорят, и бог бережет. Жили-то мы со Славиком в этом самом Ржевском треугольнике. Так в бомбежку как паровозы по тревоге вокруг соберутся, как загудят – ой, такая жуть берет! Лучше во сто крат зарыться в землю живьем, чтоб ничего не слышать… И вот мы стали с тех пор бегать куда ни придется и как ни придется.
– А теперь лишили нас всего, – добавила Анна, – даже наших печек-выручалок. Сделали из нас лишенцев, вот кого. Все-таки ж не сами мы, не по собственной мы воле кинулись наутек от них, а держались до конца около них, около остатков, или признаков дома.
– Ну, об чем говорить!
Саша ликовал:
– И как только это мы дотумкали пойти Заказником?! Это нас спасло.
– Ой, помолчи пока, Сашок, – урезонила его Наташа, прилаживаясь снова к санкам. – Еще вон – километров шесть нам пробираться. Пока не загадывай…
– Да я точно говорю вам… Потому…
– После лучше скажешь.
– Давай заложимся, что прав я – не ты!
Но закладываться с ним сестра не стала: несерьезно.
Напуганные, они, разумеется, побаивались вновь напороться на засаду какую. Тем вероятнее, что в Заказнике им впервые беспрепятственно открылся во всем удручающем объеме созданный истинно немецкий укрепленный городок – столько было налеплено дотов, блиндажей и наделано ходов сообщений между ними, площадок для орудий, такая огромная и совершенно бесполезная, никчемная работа проделана армией врагов, чтобы удержаться здесь зачем-то! Немыслимо. Ведь все было разрыто и раскидано беспорядочно, вперемежку с ящиками, с бочками, с горами боеприпасов, с порохом в белых шелковых мешочках, с гнездами для батарей, с обширнейшими воронками, все брошено – повсюду, сколько здесь ни шли, пробираясь меж этого хаоса; снег был исполосован до земли колесами орудий и повозок, и автомашин, и танкеток, – нигде живого места не осталось; следы были свежие – вчерашние или позавчерашние. Но все ли немцы смылись? Нет ли у них заслона? Вот мучительный вопрос!
– Надо же, наизготовили, подзаточили и скопили сколько бомбочек всяких, – прикинула вслух Анна, – весь металл, видать, потратили. И все-то против нас, людей, направлено, чтобы укокошить, тогда как даже на гвозди, чтобы прибить нужную досочку или в гроб забить (правда, теперь без гробов хоронили), нехватает этого металла, сколько бы его ни добывали. Разве же нормально это у людей?
Наконец преодолели весь здесь запаршивленно-изъявленный и донельзя извоженный Заказник. Преодолели его без особых происшествий, без усталости зудящей до знакомой уж по прежним переходам ломоты в ногах, в плечах, в руках. Поломались, правда, санки у семьи Большой Марьи, женщины на счастье, как узналось в эти немногие дни, все же незлобливой, свойской по натуре; но их с деловитостью ребята моментально подцепили сзади на буксир к стойкам все-таки, хотя уже и потресканным изрядно, розвальням Кашиных и так тащили дальше – дружно-сообща. Любо-мило. Прелесть было это видеть. Только в радость. Только, значит, радуйся. Шли-то целые, живые все – друг за другом. Малых деточек везли…
Анна, как-то воспарив в душе на миг (потеряла над собой контроль, клуня этакая, точно клуня), даже перестала думать то, о чем только что сейчас ошалело-неожиданно подумала в Заказнике, когда лес всерьез с собой сравнила, по себе примерила его несомненно чувствующее существо, все его деревья с веточками всеми и еще землей и воздухом, которые тех питали соками какими-то, – что, наверное, настолько же теперь человечьим телом своим тоже запаршивела и сами все они, бегущие, ползущие к себе домой, давно не мытые как следует, не скобленые докрасна мочалкой с мылом: вши и гниды, разумеется, еще не заели их совсем, но позавелись в волосах и платье, помаленьку слышно ползали и ели. Спрашивается, к каким это предстоящим переменам в жизни?
Они брошенные всеми, выселенные женщины и дети, вероятно, только потому и стали теперь странствующими беглецами – потому что этих перемен они не столько ждали с милостивой покорностью и святой мольбой, со слезами на глазах, а сколько ждали страстно, непокорно и неумолимо рвались и карабкались вперед побыстрее изо всех потуг и силенок, порой рассудку и страху вопреки.
Да, вот оно, отличительное свойство людей от вросших в почву братьев-деревьев, которым на роду было заказано стоять на месте и ждать чего-то от капризов природы и людей жестоких, заключалась именно в том, что они не дожидались сиднем сидючи часа избавления от насевших нелюдей, а могли хотя бы уползти на четвереньках, когда можно было. Ими деятельность двигала.
Вышли уж на окаймлявшую близь Ромашино заказницкую окраину.
Здесь проселочная, в точности уже известная, как персты свои, дорога по еще натянутому, коркообразному, но будто уже ячеистому, уже выпустевавшему изнутри, снеговому покрывалу, которое под солнцем сверкало расплавленным хрусталем, также являла собой, являла во всю значительную ширину свою; вместе с закраинами и какими-то объездами, или ответвлениями, сплошное и глубокое (в зарослях) – по пояс – месиво. Что тоже указывало очень верно, надежно на всеобщее бегство отсюда неприятеля, не иначе. Иначе быть не могло. Допустить нельзя. Оставленные в снеговом, прихваченном слегка морозом, покрове колесные и другие прорези-следы были до того глубоки и широки, что только и следи за тем, чтоб не завалились и не опрокинулись над рытвинами санки. Из-за этого-то до обидного медлительно, конечно, продвигались. Тогда как почти что рядом, вот уже, сполна проступили в розоватой дымке освещенные мягким робко-дрожащим солнцем знакомые до невыразимо радостной боли очертания сгорбленной деревни, по которой так соскучились – она словно бы застыла в ожидании чего-то.
Как будто вечность целая прошла с того дня, когда они, возвращающиеся сюда по собственному хотению (и порыву), сколько их не пинали и не толкали взашей, покинули ее.
Сейчас, с каждым следующим шагом приближаясь к родной деревне, видно, выстывшей жильем и их человеческим запахом за время их отсутствия, блудные-неблудные ее дочери и сыновья, вглядывались в нее пристально, ревниво: более всего, разумеется, тревожило как-никак – все ли здесь сейчас спокойно, тихо? Нет ли немцев? Да, даже и у самой, по существу, цели они, не доверяя никаким своим головокружительным догадкам и предположениям, еще мыслили по-старому, надежнее – прочно завладевшими всем их существом категориями разумного в этих условиях самосохранения, и, хотя душа уже просилась петь, робко начинала выводить мотив, они еще боялись преждевременно восторжествовать, чтобы не расслабиться и не попасть впросак таким самым что ни на есть глупейшим образом. Это останавливало всех.
Свободно шагавшая одна, без всякой ноши и без маминой руки, Вера, которая, очевидно, также сильнее чувствовала приближение какой-то торжественно-важной минуты от того, чего всем хотелось до безумия достичь, как завидела да узнала родную деревню, так и непосредственно, по-детски, все позабыв, припустила к ней вприпрыжку, хотя устала тоже, со словами, которые она послала мимоходом через плечо…
– Я сейчас… Слетаю туда… И погляжу… – И с тем, отделившись, мигом всех опередила, не успел никто даже попытаться ее задержать.
Хуже того, кто-то еще благословил ее весело – в тон ей:
– Да, пожалуйста, махни, Верочка, касатик!
– Ой, – ужаснулась Анна мгновение спустя, – нет, подумать только! Послали семилетнюю девчонку в разведку – неразумные искатели! Кто ж из нас малее да глупее, не пойму, – она или мы, взрослые?! Определенно – мы, должно, если так.
XIII
Охотно побежала вперед Вера, пока не видя ничего такого, чтобы ей чего-то устрашиться, убояться, и не думала ничуть о том, что ей могло быть отчего-нибудь страшно. Припрыгивая, она добежала до крайней землянки своей, распахнутой настежь. Всюду царило непривычное безлюдье, поражавшее воображение, и все было брошено, или выброшено, и пораспахнуто, или побито.
Единственное существо, кого Вера встретила здесь, у землянки, была их серая кошка Мурка, похудевшая, с опавшими боками, но тотчас узнавшая ее; она замяукала жалобно и вместе с тем обрадованно, стала ластиться у ее ног. Так ведь было и осенью 1941 года, когда уезжали от бомбежек в Строенки и Дубакино: Мурка и тогда, пережив отсутствие своих хозяев, очень радовалась возвращению их. То же было и теперь. Тоже две недели прошли. Покамест они были в изгнании.
Второпях, уже пугливо, побегала, побегала Верочка меж покинутых землянок и мощных немецких блиндажей, нашлепанных везде в Ромашино, как водилось, за счет отнятых силой у живущего населения и разобранных изб и иных деревянных построек, словно как в какой неведомой глухомани – одна-то, такая пигалица – от горшка два вершка, да и разобрал ее по-настоящему испуг; испугалась она небывало застойной здесь, под линией фронта, тишины, к которой не привыкли, и неправдоподобного безлюдья. Сердечко у ней заколотилось чаще, чаще да отчаянней. Слыхать далеко, пожалуй, было. И тогда, будто бы ликуя сквозь заколотившуюся эту дрожь, помчалась она, сколько позволяли ей великоватые семимильные валенки и одежда грубая, хлопавшая по коленям длинными полами, уже навстречу своим, чтобы поскорее быть ей вместе с ними, около них и так зарядиться снова храбростью, спокойствием. Вместе-то, что ни говори, бесстрашней.
– Что там? Как? – приостанавливаясь, набросились на нее с вопросами подходившие.
С ходу она выпалила, добежав, запыхавшаяся:
– Там все разорено и нет никого, ни единой душеньки, одна киска наша бродит, жалобно мяукает, вот! – и взяла мать за руку. Теплую. – Наверно, тоже хочет есть.
– Что, и тети Поли еще нету, солнышко? – только удивилась Анна. – Ну и ну!
– Не, мам, не видала я. Только видела, что стекла у ней выбиты. В избе.
– Господи, спаси ее! Одна с бабкой, может, где-то надрывается… А ушла она ведь много раньше нашего оттуда. На неделю раньше. Ну, пойдемте, детушки, быстрей; уж последний-то подъем теперь возьмем – и, считайте, дома будем, дома все-таки. Теперь сами все увидим… Значит, умелись они-то, изверги! Очистили…
– Мамка, тоже ты дрожишь?..
– Немножко так, роднуля. Не таю от вас. Я не таю. – И было Анне некогда вздохнуть.
«Что, свободные идем?! – сверлила каждого мысль, не только Анну. – Свершилось это, что ль?!» Даже больно, больно становилось в сердце от того, что лихорадочно-потерянно чувствовалось и думалось в эти скорые и долгие вместе с тем минуты. Радость распирала легкие.
Очень скоро войдя в свою деревню, все увидели разор повсеместный, пакостный. И в землянке Кашиных было то же самое: вероятно, тот разор – немецкие солдаты, полицаи и предатели-власовцы шаргали всюду тут и нарочно пакостили народу, которому они ни за что, но, тем не менее, с легкостью нанесли уже столько страшных увечий и вреда, исходя лишь из своих подогретых мерзко хулиганских побуждений.
Но и все-таки сказочный был этот день для возвращенцев, несмотря ни на что: великое дело было сделано – они наконец-то вернулись домой, Анна и другие матери привели домой своих ребят-цыплят!
А дома, известно, и стены, какие еще есть, помогают. По крайней мере, так казалось. Ведь веру в свободу, подумала Анна, они подсознательно, должно быть, связывали с верой в непокоренную Родину, с которой их хотели разлучить жестоко, разлучить обманом, вероломством, хитростью. Они увернулись от разлуки с нею, как смогли: страшась, но делая по-своему, наперекор насильнику.
Да, это было, видимо, сильно развитое в ней чувство родительского гнездышка, не более того, – чувство, необъяснимое ей самой, как ни пыталась она постичь его и так, и сяк, с какой стороны она не подходила к нему. Оно ведь тонуть ей не давало, держало, что называется, наверху и вело ее почти прямехонько сквозь все невзгоды; оно приказывало ей властно: сделай так, а не этак. Потому отчасти все-таки, если бы, конечно, и отпали, можно допустить, эти путы, связывающие ее по рукам и ногам, – ее несмышленыши, она в 41-м году опрометью не бежала бы за тридевять земель; лишь потому, что почему-то с твердостью и неистребимостью верила в его неприкосновенную святость, нерушимость до тех пор, пока была жива, пока обреталась, оборачивалась здесь, как могла, со своими малыми. Всеми.
Уже лучше, действительно, быть зарытой где угодно здесь, в этой земле немилостивой, чем где-то вдали от нее здравствовать и процветать, напихивать до упора свой живот куском, пускай отборным, подслащенным, но, должно быть, пресно вяжущим во рту хуже спело-черненькой черемуховой ягодки.
Точно опоминаясь и насыщаясь досыта живительным родным воздухом, стояли Кашины и Дуня, оглушенные свершившимся, у входа в землянку, куда вернулись; они стояли и после того, как счастливыми глазами проводили уходивших к себе, в самый центр Ромашино, три семьи таких же беглецов-попутчиков.
Высоко уже поднявшееся солнце грело по-весеннему, было светло, ясно под ним и охвачено тончайшим розоватым туманцем и то, что виднелось в нем вдали, бежало, чудилось, вперед, сюда, а все ближнее – назад, отсюда – словно бы все разворачивалось панорамой на глазах (можно было видеть запросто) – величественно, необыкновенно. Тишина такая царила кругом, что даже было слышно, как обломился сам по себе на яблони сухой сучок отмерший и, шелестя, воткнулся в убывающий снег потемнелый, сахаристый с виду, и как напреребой тонкие тяжелые капли, сбираясь, ронялись вниз с хрупких хрустальных сосулек, свисавших с обледенелой, но уже оттаивавшей иструхлявленной соломы, что прикрывала узенький вход в землянку. А об ноги терлась, мурлыча, Мурка. Потом она, вылизывая бока и белую грудку, сидела на старом корыте, кем-то выброшенном на улицу.
– Ну, вы только посмотрите, – воскликнула Анна от избытка чувств.
– Что?
– Ну, вороны на вишне сидят, не улетают прочь. Уже, значит, не боятся. Не боятся людей, как прежде.
– Они, мам, пугались не людей, – поправил ее Саша, – а солдат немецких. С карабинами. Потому как те брали и их на прицел.
– Естественно, – сказала Наташа, – кур-то и гусей всех передушили.