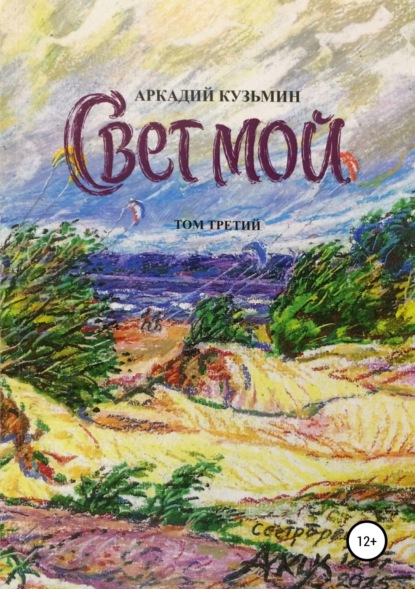По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Свет мой. Том 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Его все сильнее угнетала нецелесообразность делаемого им – он сиднем сидел целыми днями на выгоне и караулил пасущихся лошадей. Вдобавок же к тому еще ловил на себе косые, как ему казалось, взгляды сослуживцев, как будто говорящих ему недвусмысленно: «Загораешь? А другим-то каково!» А однажды Анна Андреевна, которая больше не возилась на кухне, напрямик посетовала ему, что ей жалко Настю: там теперь совсем тяжело – ворочать бачки одной…
– Отчего… одной, Анна Андреевна? – поинтересовался он.
– А ты еще не слышал? Да нашего Петрова сегодня шальной пулей ранило. В плечо. Когда он сел к окну позавтракать. Пуля пробила стекло…
– Ну, напасти посыпались. Где же он?
– В госпиталь его отправили. Легкое ранение.
На самом деле кухарничать одной Насте было нелегко, – Антон, обедая, убедился в том достаточно: она ни с чем не управлялась, вследствие чего жутко суетилась. Между тем желающих ей пособить почему-то не было, словно солнце не затмилось – ничего в том необычного, серьезного не находили. И ему стало искренне жаль ее, беременную, беспомощную, суетливую. Он вознамерился как-то облегчить ей тяжкое бремя.
Случай способствовал осуществлению его намерения.
Максимов и Кузин разъехались. На поляне паслись, выщипывая позднюю травку, лошади, и Антон, вновь окруженной галдящей толпой польских мальчишек, с удовольствием болтал с ними обо всем. Как насторожился почему-то, завидев, что к ним приближается скорым шагом плотный и ладно одетый мужчина-поляк. Едва он увидел, что его заметили, – он грубо, с осознанием своей грубой силы, властно крикнул, разгоняя мальчишек от Антона, и прямо, самоуверенно-нагло двинулся к нему с какими-то намерениями. Как ни парадоксально это может показаться, но Антона спасла от могущей быть неприятности именно алчность, горевшая в маленьких глазах поляка, и какая-то его самоуверенность, а также сказанное кем-то из ребят полушепотом, что он – очень злой и опасный человек. А главное, Антона донельзя озлил его окрик, с каким он разгонял мальчишек. Ему что-то было нужно. И только потом он, обнаружив, верно, что насторожил Антона, громко сказал ему на ходу, чтобы тот продал ему винтовку. А сам, как ни в чем не бывало, не сбавляя шага, продолжал идти вперед с тем же недобрым огоньком в глазах…
Антон опомнился. Поблизости никого из сослуживцев не было в этот момент и ему приходилось верно действовать самому. Тут пришла на ум трагическая смерть Хоменко.
– Здесь пост. Не подходить! – сказал он, взяв оружие на изготовку, и повторил: – Стой! Не подходить!
Самоуверенный незваный гость все продвигался к нему, игнорируя предупреждение, с самодовольно-иронической ухмылкой и твердил еще, что хочет осмотреть винтовку.
– Стой! Стреляю! – вскричал Антон и немедленно дал выстрел в воздух – над его чернявой головой. В мгновение ока снова загнал в патронник патрон, клацнув затвором.
Поляк ступил еще шаг.
И Антон уже наставил на него винтовку:
– Еще шаг – и я стреляю!
Тот остановился в нескольких шагах от Кашина. Глаза его бесновались.
– Назад! – скомандовал Антон тотчас. – Считаю до трех: раз! Два!
И самоуверенный поляк, более не мешкая, попятился послушно; он отступал на безопасное, по-видимому, расстояние, потому как лишь после этого он разразился площадной бранью. И ушел ни с чем, восвояси.
В частности, удаляясь от Антона, грозился пожаловаться старшему лейтенанту, кого знал хорошо, и пугал, что добьется того, чтобы его наказали. Однако, Антон, радуясь тому, что так благополучно отделался от нахала, без урона, уже не вступил с ним перебранку – для чего?
Окружаемый опять галдящими мальчишками, которые затихнув, издали следили за этим поединком, он только приговаривал возбуженно-разгоряченно, разряжая винтовку:
– А то «передай мне… да продай…» Ишь чего захотел! Я, пожалуй, продам… – И закинул винтовку опять за спину.
Назавтра зашел в большой полутемный и несколько покосившийся деревянный дом – к квартировавшему в нем Манюшкину. И застал старшего лейтенанта в тот момент, когда он наедине с собой расхаживал из угла в угол по желтым половицам и читал проникновенно в полуголос:
Жди меня,
И я вернусь,
Только очень жди.
Он с неудовольствием, даже замешательством оглянулся на Антона. И заговорил в такт только что произносимого им стихотворения:
– А! Пришел… Пришел опять… Просить… И я помню… знаю…
– Вы же обещали мне только на два дня, – говорил Антон проникновенно, стараясь пробить его, – а прошло их – я уже со счета сбился. Ведь прошусь не на безделье (здесь, наоборот, бездельничаю, вроде, получается); лучше я пойду пока на кухню – бедной Насте помогу…
– Подожди минутку, я спрошу (хотел специально тебя вызвать), – и в голосе начальника прозвучала какая-то недобрая решимость: – а зачем ты стрелял сегодня из винтовки и прогнал прочь вполне солидного поляка?
– А, уже нажаловался, субчик-голубчик…
– За это надо наказать тебя. Распустился ты…
– Это почему же?
– Потому что поляки – дружественный нам народ. А ты…
– Ну, народ совсем другое дело. Ведь я вижу… Разбираюсь в этом. – Антон чувствовал себя полностью правым. – А он вам сказал, что хотел купить у меня винтовку? Это он сказал?
– Нет, впервые слышу. – Старший лейтенант заколебался.
– Ну, так я и повернул его… Для чего он провоцировал меня, когда я был на посту?
– Ну, не знаю… Может, он хотел купить для будущей охоты?
– Боевое-то оружие?! А не из тех ли националистов он? Это ж наглость – еще жаловаться, когда сам виноват кругом! Ишь ты, как его заело!..
«Это очень хорошо, когда жалуются на тебя в подобных случаях; значит, твой противник был бессилен, а не ты против него, – с удовлетворением подумал Кашин, глядя на уютное домашнее лицо Манюшкина, не умеющим быть строгим и сердиться, и отчитывать кого-то. – Ты предугадал, наверное, его намерение и сделал единственно верное в создавшейся ситуации. Ведь что было бы, если бы этого не было; если бы он успел приблизиться ко мне, он бы мог свободно отобрать у меня винтовку силой среди бела дня: он мужчина крупный, сильный, ловкий, и, должно быть, непростой, – и, поди потом… доказывай всем, и в том числе непонятному Манюшкину, как все глупо вышло… Хорошо, что я вовремя почувствовал грозящую мне опасность. В караул, как Петров, я никогда не ходил, и меня никто никак не инструктировал на этот счет…»
– И все-таки зачем стрелять и так бесцеремонно обходиться с ним?
«Да, зачем? – думалось Антону невольно в тон словам Манюшкина, – для него, видать, напрасно все. Зачем стрелял? Зачем сторожил коней? Для него совсем неважно это. Сейчас он не слышит меня, читает наизусть стихи. И арии поет. Раз невзначай слышал, как пел он арию Германа. Но нисколько не держит слова своего, ему не верен, – теперь-то я проверил. Да и мой любимый майор Рисс не больно-то беспокоиться обо мне… Так… Когда увидит, все заигрывает. Так чего ж я молчу?..»
– Ну, ладно, ты про то забудь.
– Нет, товарищ старший лейтенант, я Хоменко еще не забыл, его внезапную смерть.
Старший лейтенант поморщился слабо и устало согласился с ним:
– Ладно, ты иди, иди, Антон.
Но Антон уже разошелся не на шутку:
– Нет. Я снова прошу вас подыскать мне замену. Я серьезно не могу, не могу сидеть возле лошадей… пасти их… сторожить… запрягать и распрягать… загонять в сарай… Вон на кухне теперь такая пробка стала… Одна Настя там ни за что не управляется… Ей ведь очень тяжело…
– Настя, говоришь?
– Да, ей очень тяжело. Вы ведь знаете…
– Знаю, тяжело. Еще б! Ребенка ждет. На сносях, – сказал он грубо. – И та, Анна Андреевна, ушла.