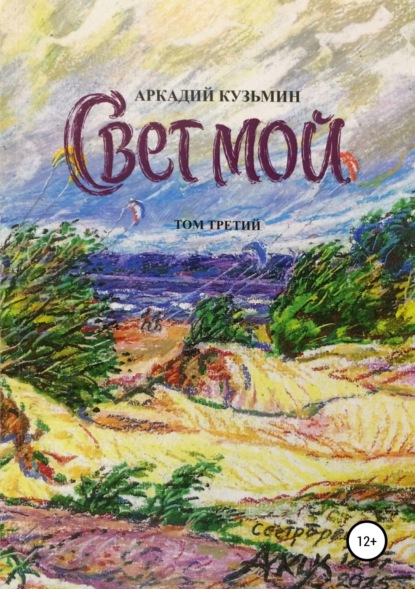По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Свет мой. Том 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
IX
Короткий осенний день все заметней убывал, темнело рано. Торчали под ногами грубые почерневшие стебли осота с расклеванными наскоками ветра белым пухом склоняющихся шапочек. Между тем было далеко не безопасно расхаживать здесь поздно: участились нападения экстремистов, сторонников польского лондонского правительства и переодетых власовцев, на советских офицеров и солдат с целью заполучения оружия, формы и документов. И поэтому рекомендовалось по вечерам-ночам ходить хотя бы вдвоем. Тем более мало у кого имелось при себе оружие. Лишь у офицеров…
Хозяйство же военной части – жилые помещения, склады, столовая, гараж и пр. – занимало большие дощатые бараки; они отстояли в стороне от главного – штабного – здания на километровом примерно расстоянии, за бесхозными капустным полем, принадлежавшим раньше какой-то немецкой части. А заниматься чем-то в штабе приходилось далеко допоздна: хватало снабженческих дел для подопечных госпиталей, в которых врачи лечили и спасали раненых.
В бывшем местном клубе – виадуке с блестевшей под солнцем металлической крышей совещались трое командующих снежных фронтов. По периметру от него, в метрах трехстах было расставлено плотное оцепление автоматчиков наизготовку и те строго делали отмашку управленцам на обход прямо по капустному полю, когда те шли на обед в барак и после возвращались обратно. Антон проходил здесь в момент, когда маршалы вышли из клуба, видно, в перерыв, наружу, чтобы подышать свежим воздухом и размяться и хорошо различил – по росту и телосложению – Г. Жукова и К. Рокосовского. Эта встреча командующих очень обнадежила всех добрых знаком: она несомненно могла, как водится, предварять начало нового наступления.
Вечером праздничного дня – 7 ноября – Люба приструнивающе-строгим тоном, не допускавшим возражений, скомандовала Антону и Вале, успевшей сдружиться с ней:
– Вот сейчас Антон проводит тебя, Валя, туда в барак. Идите вы вперед! А я – чуть позже… У меня есть попутчики…
В обступившей их густой холодно й непроглядности ночи они шли, неловко касаясь рук друг друга, и бессвязно говорили о каких-то пустяках, не о главном чем-то. Скользила под ногами многослойная никлая трава, листва; редко доносился, проносился звук бегущих автомашин с шоссе. И прерывисто стучало у Антона сердце. Ведь около него пел бархатный голосок Валюши:
– Ой, слышишь – падают плоды каштанов! Была я с родителями в Крыму перед войной. Там спелые абрикосы, вишни, ежевика падали на землю и чернили – пятнами ее, что кровинки, что ни пройти по тропинке. И их никто не брал, не собирал, представляешь! Этой беззаботности ведь уже не будет больше никогда! – И она вздыхала. – Я не потеряюсь, нет? Где ты, Антоша?
И он слышал ее дыхание рядом с собой: дескать, провожая ее, проявляю вежливость – обычное дело, только и всего, но ему-то самому было очень радостно, волнующе-смятенно. Был же и холодок в груди – а должным ли образом он вел себя? Ведь еще не умел-то, понимал, и сказать своей девушке что-нибудь приятное, хорошее, а не то, что значительное что-нибудь.
– Валя, а художника Самсонова ты знаешь хорошо? – почему-то не давало ему покоя самодовольство сержанта – прежде всего. – Он нарисовал при мне твой портрет…
– А-а, пускай рисует бездну их, – сказала она беззаботно.
– Мне он… В общем, не пойду я больше к нему…
– Значит, душа так велит. – Она снова прикоснулась к руке Антона ладошкой. – И не нужно объяснений, если душа есть, понимает.
Незаметно разговор их в пути упорядочился, выровнялся.
Вступив же в жилой барак, они враз – словно береглись от всех – расстались.
Антон с надеждой постучал в дверь к Шаташискому – захотел его увидеть в этот день. К счастью, оказалось, он уже прибыл из командировки: был у себя. И, обрадованно усадив его в своей комнатке на вторую койку (напротив себя), только начал расспрашивать о том-сем, как сюда шумливо пожаловали также Люба и Коржев, а с нами заодно и Валя. После приглашения хозяина, в то время как сержант подсел на кровать к нему, старшему лейтенанту, Валя, выбирая мгновение, куда сесть, опустилась рядышком с Антоном, между им и Любой, севшей на противоположный край койки. Оттого-то все они пуще заголдели-расшутились, ровно малые, без ума:
– О, смотрите-ка, куда она нацелилась, а!
– Нет, мы не отдадим ей его! И не думай, милая!
Смешинка напала на всех.
Конечно, непросто быть под сущей пыткой, сидя бок о бок с милой девушкой и уже физически ощущать ее близость, и краснеть оттого по-глупому, когда для взрослых окружающих, он знал, все это могло казаться лишь чем-то любопытным, забавным, эпизодом, сопутствующим их случайно веселому времяпрепровождению, только и всего.
После, когда все уже разошлись по углам своим, Кашин вспомнил, что хозяйственный сержант Вихорев, кладовщик, обещал ему дать александринскую бумагу, прибереженную им. Но, завернув в слабо освещенное лампочкой вместительное помещение, что было перед складским, внезапно замер на пороге, едва отвел рукой занавеску: услыхал здесь названным свое имя! В дальнем конце комнаты капитан – медик Михишина рассказывала о том, как накануне он, Антон, очень учтиво провожал ее сюда, в барак, и как любезно уговаривал ее не бояться темноты. Никто не почувствовал присутствия здесь Антона, еще помедливавшего с уходом (хотя знал, что негоже было подслушивать чужой разговор) – он затаил дыхание, так как Микишина следом и спросила:
– Валюша, ты-то молодая… А тебе-то он, Антон, понравился в роли провожатого? Или кто-то другой есть у тебя?
И Валин голосок за шторкой ответил с заметной заминкой:
– Ну, есть – не есть. И, знаете, о нем, наверное, следует судить тогда, когда он станет мужчиной, например, таким, каким был мой отец. Все, что я могу Вам сказать.
О, до чего ж Антон тут возненавидел себя в свете ее неприкрытой правды, очевидной, ясной и логичной, тотчас разрушивший его хлипкую и несбыточную надежду на что-то исключительно романтичное. Он самому себе был противен. Итак, потерпел поражение везде…
Он, по обыкновению подсвечивая себе спичкой в темной комнатушке, узрел свою постель, разложенную на матрасе, кинутым прямо на полу у стенки, наощупь разделся и забрался под одеяла с великой думкой. Ему предстояло по-новому жить.
И к какому же выводу он пришел в конце-концов? К самому простому и естественному: главное, не суетится и не носиться впредь с собственной персоной – ни к чему. Потом ему показалось такими плоскими и нудными шутки и смешки окружающих взрослых над чем-то значащем, подобном тому, что он переживал, и сами сослуживцы обыкновеннее, чем думал о них, в том числе и Валя, которую он уже видел все реже, неохотнее и от которой уже отдалялся мысленно. Чтобы уступить ей не привязанность.
Везде уже пустел, сквозил простором Замбрувский краснокирпичный городок; все снимались с мест – повсюду возле зданий были накиданы всякие вещи в ожидании погрузки и вывоза отсюда; возле немногих грузовых и санитарных автомашин сноровисто сновали хозяйственники, командиры, шоферы, экипированные тепло, по-дорожному.
Задувал холодный ветерок. Белели обсыпанные мелким снежком, как синеватой крупой, доски, палки, крыши и блеклая трава, обращенная прерывистой, что рябь на воде, поверхностью к северу; прихваченная морозцем, осыпалась шелухой с кустарников последняя листва.
Антон возвращался сквозящей липовой аллеей к себе в часть. Когда взглянув попристальней вперед, вдруг заволновался и нахмурился невольно. Навстречу ему мягко шла она, Валюша, в шинели и беретке. Точно маленький, либо напроказивший, он нагнул голову: ему стало страшно и отчего-то стыдно быть наедине с ней. Было неудобно также, как всегда, и за свой допотопный вид в фуфайке и в порванных брезентовых сапогах. Он лишь поздоровался несмело, все же надеясь на то, что умом Валюша все поймет и остановит его своим чудным голоском, и замирая в ожидании того самого. И так было уж совсем прошел мимо нее. Чужой. Какой-то заколдованный. Однако, чувствовал, и она, удивленно онемевшая не менее чем он, проговорила на ходу потушенно:
– Здравствуй, Антоша! – словно тоже стыдилась чего-то теперь – и не могла первой опомниться, остановиться.
Тогда он глухо, сделав усилие, позвал ее:
– Валя, до свиданья, что ли? – сказал к спеху подвернувшиеся слова, а хотел бы сказать-попросить, чтобы она простила его за что-то скверное, за что ненавидел себя в эти дни. Да, было нечто нежеланное, насилие над собой. – Ведь мы тоже уезжаем. Знаешь?
Она развернулась к нему:
– Что, сегодня же? Готово? – не сдержала вздох.
– Все. Упаковались. Транспорт ждем.
И Антон с ней, было разошедшиеся на несколько шагов, вновь сблизились на холодной дорожке, засыпанной хрупкими мертвевшими листьями.
Сблизились под негреющим солнцем. Он подал руку ей. Она задержала его ладонь в своей. Казалось, оттого, что он позвал ее, она вновь преобразилась вся; она улыбалась ему, и ласковость светилась в ее теплых глазах с искринками. А солнечные лучи золотистые, как и тогда, когда – в первый раз – он увидал ее, били ослепительно из-за нее, играли в ее волосах, что ему опять было ломко глядеть в лицо ей. Но они были одни на тротуаре. И тут он особенно остро почувствовал вдруг ее всегдашнюю хрупкость и беззащитность.
Им никто не мешал. Никто не видел их вдвоем. Благословенный же был момент – тот самый удобный, когда им можно бы было поговорить друг с другом о чем-то самом главном. Ему все-таки нравилась Валя – она была очень мила, особенна… Да, как на грех, откуда ни возьмись, на шоссе, шедшую параллельно аллеи, выкатил на телеге согбенно сидящий поляк с бочкой. Рыжая его лошаденка как-то сама собой вкопанно стала с тоской вечной покорности в глазах – как раз напротив Вали и Антона; полусонный возница, держа в руках вожжи, и не подгонял свою лошадку, а с передка телеги уставился на них, стоявших среди осеннего запустения; он словно видел нечто диковинное, невиданное им здесь еще прежде. Там что вследствие этого сызнова скомкалась последняя встреча Антона и Вали: он по-прежнему засмущался, стал поскорей прощаться. То – немыслимо!
– Ну, надеюсь, еще увидимся с тобой, Валя? – сказал он робко.
– Я тоже надеюсь, – присказала она с легкой грустью. – До свидания! – Она, медля, сделала шаг в сторону от него.
– Пока!
– До свидания, Антон!
Он запнулся и потом пошел быстрей, быстрей.
Вдруг его слух уловил захватывающе-чарующую песню.
«Неужели вот этот – такой редкостный певец?» Он вгляделся пристальней. И увиденная им картина была для него столь необычной, бесподобной. По шоссе шагал прямо, даже величественно, положив на голову длинное двадцатидвухкилограммовое противотанковое ружье и не придерживая его руками, а лишь словно балансируя телом, стройный и сильный, видно, грузин-боец в серой шинели, истребитель фашистских танков, и так красиво – мужественно пел на грузинском языке о неиссякаемой любви к своей матери, к своей невесте, к своей Родине. И его гортанные звуки чарующе разливались и таяли в морозном воздухе под чужим небом.
Ничего естественней и величественней этого Антон еще не слышал и не видел. Его ожидание в душе чего-то еще неизведанного прекрасного вполне соответствовало этим подаренным ему звукам песни. Да, если бы он мог, он тоже так бы запел – пусть все слышат вокруг; ах, как здорово было бы, если бы он мог так петь и мог так любить. Несомненно же все, что было с ним хорошего, вместе с этой прекрасной песней, было для него сказочным подарком судьбы. Он знал это.
Х
Минуло еще несколько месяцев. Кашин урывками – между штабными делами – также занимался прежним рисованием портретов. И еще увлекся почему-то и тем, что с жадностью почти выслушивал правдивые исповеди о самих себе простых работяг-бойцов, с кем сближался в дружбе и кто так открывался ему. Иные рассказы их, как правило, отличались поразительно колоритной правдивостью, что и в книгах порой не сыщешь; а хорошие книги Антон любил всегда читать, читал их с сызмальства. Услышанные от рассказчиков яркие истории точно пробуждали и обогащали больше его воображение. Это был такой узорный калейдоскоп событий всяких – таких разнообразно насыщенных, цветных!
Уже шел апрель. Сырые дни. Теперь Управление занимало здание в приграничном с Германией польском городке. И здесь, мимо дома, уже тек поток изможденных европейских жителей, освобожденных из нацистских концлагерей; они, и полуобтрепанные, шествовали с каким-нибудь скарбом, с мешочками, с колясками и с тачками, обозначив себя различными флажками. Шли к вокзалу: хотели поскорей вернуться из плена к себе на родину.