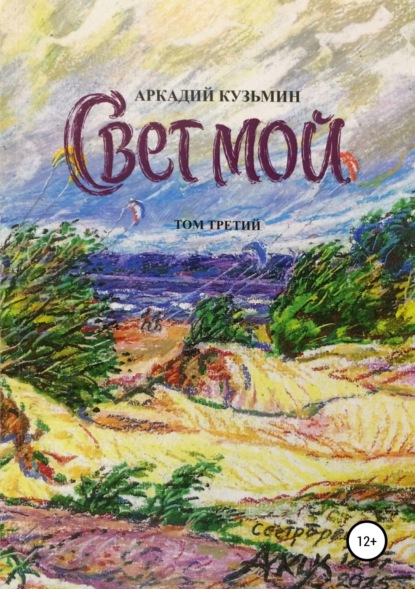По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Свет мой. Том 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«И откуда же в голове моей взялась она, какая-то убежденность в чем-то, – началась и осознавалась стойко мной? Еще, считай, с мамолетства, когда, кстати, наотрез не захотел посещать детский сад – и лишь потому, что в нем принуждали детей спать в дневные часы – в самое-то интересное время. И ведь наши родители не глупили тут – не настаивали на обратном. Держали такт, хоть и были простыми крестьянами…»
И все же Антон Кашин потом иной раз, признаться, будто слышал, чувствовал в себе некие движительные токи, будто бы говорившие ему в трудный момент, что ему нужно, а что никоим образом не нужно делать. Как бы покамест заранее охраняя его от чего-то не суть стоящего для него в этой жизни, такой случайной, бестолковой.
Вот что приключилось с ним в том же 1943 году. Под Смоленском.
В притуманенно-осенней лесной чащобе, где расположились только что их прифронтовая военная часть, Антон вдруг услышал, что мягко и близко затарахтел мотор автомашины, сбавившей скорость на травяной дороге. И он машинально взглянул сюда из-за столов деревьев. За цветистой каймой ветвей деревьев стала, развернувшись, армейская зеленая полуторка-трудяга; в ее кузове покорно сидели рядком – затылками к Антону (потому его никто не видел) – несколько русоголовых, кажется, ребят примерно его возраста и поменьше, а не просто военных бойцов. Что такое?.. Опешил он. И мгновенно же при виде этих притихлых ребят в кузове – сработала у него мысль догадливо – защитным образом. Он интуитивно прежде всего замер на месте, хоронясь за толстые стволы и свисавшие ветки, чтобы не выдать свое близкое присутствие, еще не успев хорошенько разглядеть прибывших и додумать до конца, кто они и что бы это значило: «Да, постой, это ж, верно, за мной, по душу мою – так объезжают все части фронтовые и собирают подобных мне военных воспитанников для того, чтобы отправить их в Москву – во вновь открытые суворовские училища. Вот в чем шутка! Меня же недавно агитировали быть суворовцем наши женщины-медики. А я-то чуть не забыл… Ну-ну!»
Антон ужаснулся с гневом тому, что могло статься с ним вот-вот, только согласилась быть послушным; у него уже нисколько не оставалось ни минутки для того, чтобы как-то опомниться: его могли сейчас же позвать и заарканить… Нет, не бывать сему подвоху! Ведь все-то знали о его нежелании офицерствовать потом на службе. Надо было улизнуть. И он, тихонько пригнувшись и крадучись, что зверек, за деревьевым заслоном и побегами, немного отошел в сторону, а затем опрометью сиганул подальше – в самую глубь леса, где, он хорошенько знал, и травостой в человеческий рост высотой, густой мог надежно укрыть его от глаз людских, укрыть временно.
Ветви, листья били его по лицу, рукам; ноги натыкались на выступавшие коренья, сучья, бугры; пилотка сбилась с головы, и он подхватил рукой ее. Однако он бежал, не обращая ни на что внимания, – хотел уйти незамеченным и как можно дальше. Почти немедля он вроде бы и слышал с замиранием сердца, колотившемся бешенно, как сзади кликали – искали – его. И жалко ему было тех искавших его людей. Они ради блага его старались. Но, что поделаешь, так ситуация сложилась; вынужденно он пустился теперь в бега – против своих же правил.
Потом Антон, дрожа от промозглого холода (в одной гимнастерке унесся) и не в меньшей степени – от неожиданно исключительного характера происшествия (своего невольного, понимал, позора перед сослуживцами), прилежно затаился, ровно заяц, в чащобе, среди зарослей желтевшего папоротника, где не было видно и слышно никого, никакой человеческой деятельности. Лишь обнаружила его сорока – и тут же шумно протрещав, улетела прочь, оставила опять в полном покое.
По-прежнему пасмурнело. И вроде бы накрапывало изредка. В стойко насыщенной лесными запахами глухой тишине, такая бывает в большом осеннем лесу, то тут, то там шелестели опадавшие листья, сквозившие ярко свежими – до боли в глазах – красками. Разве даже вот такое уединение с природой и ощущение всей ее невообразимой прелести можно было променять на годы пребывания в каких-то стенах училища? Нет-нет. Антон осознавал для себя: без общения с природой можно только высохнуть и умереть преждевременно.
«Хорошо, что я дальновидно сразу не дал согласия, несмотря на сильнейшие сердобольные женские, в основном, уговоры, – оправдывался он сам перед собой, присев на изогнутый комль черемухи. – Конечно, мои доброжелатели тем самым еще стараются уберечь меня от опасностей войны и от всяческих будущих лишений. Возможно. Но все-таки лучше мне сейчас не показываться им на глаза, чтобы не случилось непоправимое для меня…»
Нынче, в самый разгар военных событий, Антону казалось совершенно непростительным, во-первых, отдаться целиком учебе, а, во-вторых, учебе именно тому, к чему он не чувствовал абсолютно никакой склонности. Он хотел бы стать исследователем чего-нибудь, историком, математиком, наконец, путешественником или художником. И сейчас, сидя в своем убежище лесном, он тужил лишь оттого, что действовал вроде бы воровски перед теми ребятами-одногодками, которые заехали за ним в полуторке – словно недостойно, некрасиво обманул их ожидания зачем-то. Они-то тут причем? Все виделись ему рядком их затылки ребячьи… как в осуждение собственной заячьей прыти, своего малодушия…
Сколько времени Антон так просидел в одиночестве, он не знал: часов не было у него. Прикинув приблизительно, что пора ему выходить с повинной, сконфуженный и расстроенный больше всего тем, что убежал, не спросясь ни у кого, и оставил порученную ему работу, он вернулся к ней. Никто не ругал, не корил его за мальчишество, легкомысленность, словно ничего серьезного и не произошло, хотя в глазах иных сослуживцев он читал какое-то новое понимание всего им известного. Только прилетевшая и щебетавшая, что ласточка легкокрылая, непосредственная и живая в силу своей юности и обаяния Ира Хорошева неподдельно спросила у него в присутствии других:
– Ой, а где ты был? Все тебя искали, кликали… Недавно вот. И он, уже не таясь, ответил ей угрюмо:
– Был вон там. – И кивнул себе за спину.
– А-а, понятно… Что-то холодно становится…
Точно: ввечеру подморозило. После ужина старший лейтенант Полявская, жена подполковника Дыхне, носившая прическу по-мальчишески коротко, зазвала Антона к себе на чай, – она его привечала все-таки. Была мягкая характером. В деревянном, перевезенном сюда (срубили немцы для себя) домике, было тепло, уютно, и он за чаем оттаял немножко, развязал язык. Как понимал, Полявская негласно возглавляла общественное женское мнение в части, и для нее еще представляла интерес его несовершенная, на ее взгляд, психология – поскольку он отказался от такой заманчивой перспективы, как быть хорошим офицером. Почему же? И тут он разговорился с ней начистоту. Однако они так и не смогли переубедить друг друга решительно ни в чем.
Вместе с тем после этого дня все уговоры Антона внезапно стихли, что принесло ему несказанное удовлетворение и облегчение. Он уже нисколько не чувствовал себя лишним человеком, от которого хотят почему-то избавиться.
И никто больше не вспоминал о его сюрпризе с исчезновением.
Думается, что и без побега все бы ладно обошлось. Но тогда ему было не до раздумий…
VII
Антон поверил своему сердцу? Ну, наверное.
Все тогда совпало несомненно. Все имело, верно, смысл для Антона, пятнадцатилетнего подростка, служившего опять в штабном отделе.
Здесь, западнее Белостока (пока еще шли бои под Варшавой), Управление полевых госпиталей вместе с ними, подопечными, устроились в бывшем польском военном городке, красно-кирпичные здания которого тонули – по обеим сторонам шоссе – среда живописной россыпи деревьев, уже понявших пожелтелый лист. Антон желанно, с мальчишеской готовностью, вращался в столь разноликом обществе военных взрослых людей, живших своей особенной жизнью. А любимое осеннее великолепие в природе находило в его душе близкий отзвук. Оттого еще, наверное, наступившие дни новых хлопот, действий и впечатлений заряжали его, несмотря ни на что, какой-то необъяснимой энергией и верой во что-то необыкновенное.
Да однажды и послышалось ему, просто так послышалось, будто кто-то позвал его с привычностью (по старшинству) в смежную большую комнату. Но когда он вшагнул сюда, то застал здесь какое-то смутившее его великолепие в том, что увидел незнакомку (в защитной форме), ее открытый лик. Она стояла перед высоким стрельчатым окном, вся высвеченная солнцем из-за плескавшейся золотом листвы, впрямь некий розовый цветок, завороживших мужчин-штабистов, и прелестно говорила что-то им.
– Что, не звал меня никто? – соскочило с языка Антона. И сразу осекся он в присутствии ее настоящих покровителей.
Однако гостья приветливо взглянула в глаза Антона. Она точно вмиг признала и его, а может быть, особенно его; она как если бы своим бесконечно ласковым и чуть извиняющимся взглядом сказала лишь ему одному: «Ах, это ты, Антон, пришел?.. Славно! Ну, тогда чуть подожди, прошу тебя… как избавлюсь от такой мужской любезности…» И он, пораженный в душе, вспыхнул лихорадочно, с трепетным испугом: «Нет же, невозможно то никак! Да заблуждение мое…» Да оттого – от мысли такой негожей – даже почувствовал неловкость перед самим собой, будто уличенный кем-то в чем-то недозволенно постыдном.
Он вместе с тем был убежден в том, что девичьи глаза в точности доверили ему единственному, больше никому, нечто очень-очень важное. И ему отчаянно же, к его стыду, захотелось вновь хотя бы убедиться в этом, только в этом, чтобы успокоиться, прийти в себя и чтобы больше не придумывать для себя чего-то невозможно фантастичного.
Потому как многое теперь казалось ему вовсе не случайным.
– Очень милые глаза, милое лицо. В уличной толпе я увидал ее. И все. Так однажды продекламировал в штабном отделе новоприбывший лейтенант Волин. – Блеснул серыми глазами. И опечаленно вздохнул, пряча вздох в окладистой русой бороде.
Безусловно он, бородач, зато и выглядел внушительно-импозантно, и привораживал к себе всех, с кем общался, простым обхождением. Держался он без малейшей рисовки или надменности, или хвастовства, был сердечно открыт, оптимистично настроен, раскован. Так что вследствие этого сейчас, во время разговора, сержант Коржев и солдат Сторошук почти в рот ему глядели…
– И, что ж, не познакомились вы? – бойко, с лукавинкой спросила у него Люба Мелентьева, машинистка. Для нее-то сразу все вынь да и положь: была с острым характерцом. – Мне несколько не верится.
– И мне, знаете, самому… до сих пор. Мы чуть поговорили дружески. Да скоро разошлись. Увы, даже имени друг друга не узнали – не спросили. Встречи не назначили. Был мой грех, винюсь.
– Отчего же: интересно?
– Не хотел этим связать ее. – Лейтенант помедлил. – Показаться сразу заурядным приставалой, что ли, в ее глазах?… Нежелательно бы…И я к тому же торопился по делам киношным.
– Ну, такое может быть, – вставил Сторошук. – Я вон знал одну, дружил с ней, да и то…
– Еще потому и сделикатничал, что было это в Ленинграде (сам-то я москвич) в предвоенную весну, – рассказывал лейтенант. – Да, в конце апреля шел через Фонтанку по Чернышеву мосту – весь он был запружен народом. Увидал я, значит, толпу и услышал вокруг возбужденные голоса: «Она упала за парапет, представляете! Ей, бедняжке, искусственное дыхание делают».
– «Да разве можно спасти – столько она проплыла… Обессилела… Она долго боролась за жизнь». Кинулся в гущу толпы – не пробиться с ходу. А юркие ребятишки знай себе под ногами лезут, кричат: «Вон, вон она лежит! Искусственное дыхание ей делают…» Еще я подумал с недоумением: «Отчего же «Скорой», врачей нет?» Повернулся к женщинам: «Скажите, пострадавшая – девушка?» Те переглянулись меж собой как-то странно, засмеялись: «Кошка это, милый!». «С ума сойти можно!» – Проговорила вдруг рядом та, с которой я незамедлительно и разговорился по-хорошему. В то время, как собравшаяся публика ждала результата – оживет ли выловленная из Фонтанки кошка. Нет, только в Ленинграде могло быть такое.
– Поэтому и выстоял он, город, несмотря на ужасную блокаду, – заметила Люба.
– А я приехал тогда сюда как раз на съемки фильма. Очень торопился, значит. Вот и теперь, похвастаюсь, отращиваю бороду с такой же целью – чтобы сняться в роли одного народного мстителя…
– А сейчас, видать, жалеете о том несостоявшемся знакомстве?
– Такое впечатление произвожу? – продолжил серьезно Волин. – Увы, вы правы: точно знал ее всю жизнь. Выжила ль она в страшной блокадной переделке?..
– Так вы простите, что выпытываю: еще не женаты? – Люба покраснела чуть.
– Нет. Чести не имел, как говорится, быть представленным. Еще потерплю. Пока полжизни прожил.
– Неужели?! На вид больше вам. Из-за бороды, видать…
– А меня, знаете, что спасло раз… – доверительно сказал опять Сторошук.
– Что, тонули тоже, извинилось? От чего спасло?
– Спасло от женитьбы этой… Что нет малых в случае чего….
– С ума можно сойти! Извините, присказка эта привязалась и ко мне с того дня.
– Меня же, к счастью, спас ее какой-то страстный, безумный шепот, когда я рядышком с ней сидел в темном кинозале на сеансе… Слушайте…
– Ну, брат, погоди, после оправдаешься, – повелительно перебил его лейтенант Нестеров, молча сидевший на табуретке до этого со слегка ироничным выражением на красивом лице. Он, новый кумир Антона (так же недавно переведенный в госпитальное Управление), в кого уже влюблялись и мужчины, не только иные женщины, выделялся крепкой фигурой, общительностью и решительностью. И подлил масла в огонь. – Все хвалитесь своим холостяцким житьем-битьем, а проку-то что! Вот я, похвалюсь, женат – и нисколько не жалею. Двое малышей. И жена у меня – грузинка.
– Вот не представляла себе. Не вяжется как-то с вами…