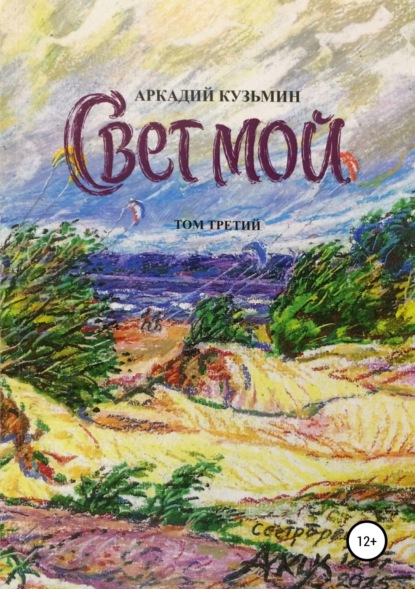По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Свет мой. Том 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Если б не безделье какое-то…
– А ты побольше читай покамест.
Антон не сказал ему всего. Главное, он все-таки неуютно, отчужденно чувствовал себя среди ездовых: не мог никак сблизиться, сдружиться с ними. Это еще его мучило, томило.
Да, и тем более, что согласия, не то, что союза душ, не было меж Максимовым и Кузиным; они чаще спорили, хоть и беззлобно, ненастырно – слишком отличались жизненный уклон и закваска каждого, а также их лета. Пожилой Максимов как бы весь был на виду – совестливо-честен, прям, ершист и непокорен; молодой же Кузин славился своей некоторой пройдошливостью, удачливостью, ловкостью. И поэтому-то незаметный примитивный спор по пустякам (точно бесконечное брюзжание двоих) у них иногда переходил в весьма существенный – о том, как надо жить. Каждый понимал это по-своему.
Еще падал ленивый утренний дождь, когда Антон после сна вылез из палатки. Капли дождя, срываясь, с шумом скатывались по листьям яблонь; висели на стебельках травы, на бельевой веревке, натянутой между деревьев.
Сочно жикала коса Максимова по мокрой напруженной траве. Антон поспешил к нему, в вдвоем они долго работали молча, заготавливая корм для лошадей.
Зато ватага местных польских ребятишек сама нахлынула к нему в лощину. Они отлично понимали друг друга, и польские мальчишки даже помогли Антону накормить и напоить лошадей. А затем по их настойчивой просьбе он показал им, как нужно стрелять из винтовки, – к их общему удовольствию всадил две пули в расщепленную грозой вершину толстой ивы, стреляя прочь от деревни, в сторону пустынного поля.
Потом он, как бы выказывая им и другие свои способности, нарисовал на четвертушке бумаги какую-то девичью головку с локонами. И один из ребятишек, как и подобает в его возрасте, в присутствии своих однолеток, с презрением скомкал рисунок, лишь сказав: «Фи!» И бросил его.
Новые знакомые Антона, в особенности нравившийся ему чистоглазый Пташек, как нельзя лучше разнообразили дни своим постоянным присутствием рядом с ним, дружбой, участливостью и просто ребячьей болтовней. Они угощали его яблоками, сбивая с яблонь оставшиеся после сбора урожая, и еще чем-нибудь; водили к себе домой и по-детски непосредственно хвастались все, что у них было (велосипед или детская комната или книжки).
А он пригласил их всех посмотреть кинофильм «Два бойца», который привезли для кинопередвижки. Собралось полдеревни народу загодя.
Когда достаточно стемнело, фильм проецировался прямо на побеленную стену мазанки, в которой помещалась армейская кухня. И этот фильм, очень человечный и поэтично трогательный – о войне, о любви двоих друзей, и блокадном Ленинграде, сразу взволновал всех собравшихся зрителей высотою чувств, близких и понятных каждому, пусть и выраженных на чужом языке. Антон видел: польские крестьяне и крестьянки ясно улыбались тому, как мило оба бойца ухаживали за девушкой, и печалились тогда, когда с редкой душевностью и грустью один из них пел о темной ночи, и тепло смеялись, если те попадали в смешное положение, и снова напряженно затихали, следя за событиями на экране. Его польские соседи даже прицокнули языком от удивления, что фронт вплотную приблизился к городу (бойцы ехали на фронт трамваем). Все было поразительно. Фильм словно открывал душу всем.
Антон решил немедля же поговорить со старшим лейтенантом и хотя бы выяснить у него, когда же, наконец, он отпустит его; тем более это было необходимо сделать, как он считал для того, чтобы он по рассеянности попросту не забыл о нем и помнил, что он находится в неопределенном положении…
Но Манюшкин буквально в упор не видел и не замечал Антона.
– Каждый по-своему с ума сходит: как хочет, так и делает, – внушал ему Кузин, с которым он чудным образом вечером съездил за три-четыре километра за ничейным овсом (они накосили его для лошадей). – Не горюй. Ты оглянись вокруг.
IV
Вскоре Манюшкин сам пришел и подошел к Антону. Непредвиденно. Без излишнего предисловия распорядился:
– Антон – друг, ты возьми буланку. Запряги-ка в тарантас. – Он был взволнован.
– Ехать далеко? Не доедет – еле дышит.
– В комендатуру. Надо выручить людей и лошадей. Черт их дернул!
Оказалось, что прошлым вечером Кузин сагитировал Максимова – они снова поехали на двух подводах за овсом. Однако их зацапали в комендатуру и посадили под арест. Вместе с лошадьми. Так что этой ночью Антон один стерег оставшихся лошадей, по-существу отвечал за все лошадиное хозяйство части.
– Ты туда махнешь с парторгом… Он сию минуту подойдет… Отвезешь его…
– А на кого я тут брошу все? Это ж не оставишь просто так.
– Человека временно поставлю. Поживей-ка запряги. Ты учти: мы срочно в Белосток возвращаемся.
– Что, на старые квартиры? – Это Антона озадачило.
– Нет, не на старые. Но такой приказ.
До обид ли на Манюшкина, до своих ли огорчений ему теперь – уже вспомнить было совестно, неловко, дико.
Комендатура размещалась в соседнем селе, недалеко от тех немецких посевов овса и поляны с разлапистым кленом. Дорога была сплошь песчаной, и лошадь, несмотря на отчаянные усилия Антона, еле-еле тянула старенький тарантас, увязавший в глубокий песок по самые спицы. В нагретом воздухе струилась и оседала пыль. Лошадь копытами выбивала каскады песка и швыряла в едущих, – ее ноги не удерживались на сыпучем грунте. Капитан Шведов сидел на сиденье прямо, хмуро. Он вертел головой на длинной шее, точно ему жал воротничок гимнастерки, и как-то пренебрежительно причмокивал, явно недовольный Антоном, своим возницей, который еще никогда не возил начальство – и хотел бы провезти его умело, искусно правя лошадьми, тем более, что в третьем отделе капитан был его начальником…
Тот не заговаривал с Антоном. Лишь поинтересовался сухо:
– А ты комсомолец?
– Да, товарищ капитан.
А потом еще наказал, чтобы он непременно постоял у плетня в тени, а то могут, чего доброго, и эту лошадь заарканить. И, прямой, как жердь, горделиво двинулся в дом, занимаемый комендатурой.
Комендатурная охрана – двое бойцов – издали с нескрываемым любопытством поглядывала на Антона.
Когда высокий Шведов возвратился, в нем заметней выделились усилившаяся сумрачность и волнение. Разве только с неизменной прежней аккуратностью и неспешностью, отличавших его, он, отводя черные лихорадочные глаза, опять воссел в легкую коляску – она колыхнулась под ним чуть.
– Поворачивай, пожалуйста, скорей! – была его просьба.
Но Антону не терпелось – поскорее хотелось узнать, выпустят ли незадачливого Кузина и Максимова, – то, за чем они ехали сюда. И, пустив назад буланку, резко затрусившую домой, он спросил недипломатично:
– Что, товарищ капитан, их не отпускают?
– Что? Кого не отпускают? – Он будто только что очнулся.
– Ну, арестованных ездовых.
– Сейчас их отпустят. Наш отъезд не терпит отлагательства… Но вот что худо… – Он попридержал дыхание… – В Белостоке, говорят, убит сержант Хоменко. Коменданта известили…
В первое мгновение, едва Антон услышал от расстроенного Шведова то, что он услышал, повернувшись на козлах к нему, тупо смотрел на него – силился умом своим понять, что же значили его пугающе непонятные слова про смерть и что же означает эта смерть, вдруг каким-то образом соединенная со знакомым именем Хоменко. Не Хоменко ли не далее как позавчера дружески передал ему материнское письмо.
– Как же так… убит?.. – голос Антона упал.
– Сообщили: вышел из кафе – и замертво упал. Неладно… Нужно срочно выехать туда… Ну, ты подгони кобылку-то свою. – И Шведов легонько дотронулся до плеча Антона, напоминая ему о его теперешних обязанностях кучера.
– Он, что, там почту получал, товарищ капитан?
– Да. И еще подыскивал для нас квартиры новые… Я прошу: живей гони. – Капитан поморщился, снял фуражку и, глянув на сиявшее в белесоватом небе солнце, платком вытер лоб.
Тем неожиданнее для Антона прозвучал, когда он уже довез его обратно и тот поблагодарил его, вопрос:
– Ну, ты видно, уже в Белостоке снова в наш отдел перейдешь?
– Ой, конечно, да, – ответил Антон скорее машинально: при несчастье грех носиться с собственной персоной…
Все, удрученные случившимся, вернулись в Белосток.
Многие предполагали лишь одно – умышленное отравление; факты все сходились – налицо. Как узнали, в тот час сержант Хоменко точно вышел из кафе и, сделав несколько шагов, упал на тротуаре; успел только подоспевшему к нему прохожему солдату назвать номер своей части и себя. При нем уже не было ни воинских документов, ни свежей, только что полученной им, почты. Просто его подвела излишняя доверчивость и открытость души с теми, с кем он встречался на своем пути.
На окраинной белостокской улице, где Управление госпиталей расположилось вновь, Антона ничто уже не радовало. Хоть и появилась опять у него новая мальчишеская компания.