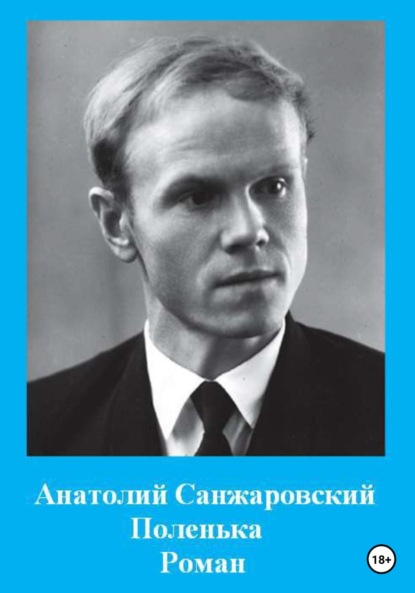По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Поленька
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вы тут не очень-то экономничайте. Не век нам с тем кривоногим однояйцовым Гитлерюгой маяться. Может, вернусь, не успеете ещё и то зёрнышко прибрать, что поприпас. Под завязку три чувала. Надолго потянет Вам на четверых?
– Бери выще, Никиш. На пятерёх считай. Пятый под серцем ось туточки уже стукае…
Никиша опустился перед Полей на колени.
Сторожко приклонил ухо к животу и зачарованно вздохнул:
– С-с-сту-у-у-учи-и-ит…
11
Иль у сокола
Крылья связаны,
Иль пути ему
Все заказаны?
Месяца через три у Поли нашлась дочка Маша. Пришла Маша в мир болезненная и до того придавленная страданиями, что уже почти не могла плакать. Она безучастно лежала в люльке и если всё же плакала когда, так без голоса, как старуха, умученная болью, хорошо знающая, что криками боли не унять, не задавить, только домашним да Богу досадишь. Плакала девочка молча, про себя, как говаривал братец Антошик, лишь слезинки торопливо погоняли одна другую по сухому пергаменту личика. Не было недели, чтоб Поля не носила её к врачу, лежала с нею трижды в совхозной больничке. Чуть подживёт в Маше дух, едва залопочет что-то своё радостное, да не век звенеть звоночку, снова к врачу.
Ермиле Чочиа, старый седой грузин врач, высушенный весь долгим своим веком и пропахший лекарствами, настаивал в четвёртый лечь раз.
– Во-первых. Будешь в больнице с дочкой, тебе оплатят бюллетень. Прибыльней и ребятам твоим по хлебной части. Как-никак твоя и её нормы идут…
– Да что там той нормы!? – плеснула Поля руками. – Кило триста на пятерёх. Хочешь ешь, хочешь молись.
– По военной поре и это большой хлеб, хоть и кукурузный. Положение с девочкой крайне серьёзно. Как главный врач говорю…
– А на кого… К кому я приткну тех трёх своих гаврюшат?
– Уже взрослые… На пожарный случай, соседи не присмотрят?
Кого ещё просить как не Анису?
Как свёл Господь в один кулак Аниса и Никиту (взяли в одну часть), Аниса ещё прочней приварилась к Поле.
– Ты гляди, – гордилась Аниса, – прямушко подбор. Вместях воронежские и там, на войнёнке. Как тута, дома, держаться кучкой сам Бог повелел!
И если раньше они просто дружили семьями, поскольку мужья вместе тохали, мотыжили, чай, у обоих были щемливо-нарядные, мятежные голоса и случалось, нет-нет да и запоют на крылечке так, что сбегались соседи послушать, то теперь они выручали всегда друг дружку. В письме одного обязательно сообщалось о судьбе другого и из дома обычно писалось про обе семьи, а иногда слалась и одна грамотка на двоих. Писала Аниса, Поля поддиктовывала что от себя.
Аниса даже обрадовалась, что вошла в открытую пользу Поле. Оттого каждое утро, каждый вечер залетала она к ребятам, весело пытала:
– Ну как вы тут, домовята? Никто ещё не умёр с холода?
– Неа! – гремело отовсюду и мальчишки выкатывались к её ногам из разных углов, из-под кровати, из-под стола.
– Тогда, геройчики, по сто лет будете жить! В этой своей волкоморне!
С ходу она кидалась разводить печку. Сварит какого супа из жареной кукурузы, наколотой Митрофаном молотком на скрыне. Заштопает кому там носки, рубашку. Вымоет пол красным кирпичом. Пристирнёт что.
И ой как не н
равились эти благотворительные наскоки Митрофану. Ну кого оставляли в доме за старшого? Его! Кто в доме хозяйко? Он, Митроша! Это ещё сам отец заложил, как уходил на фронт. Так по каковецкому праву она тут царюет?
И солоней всего подпекало то, что ни надумай он сделать, только соберись со всей мужской основательностью, к чему приучал отец, то-олько вот он вот разготов взяться, ан, ни слова не говоря, Аниса уже делает всё то со смешками.
«Ну уж тюти! Хватя из меня буланчика строить!»[53 - Буланчика строить – строить дурака.] – пальнул ей в мыслях, а вслух не отважился. Как взрослому такое ахнешь?
– Всё бы хорошо, да с ботинками у вас, воителюшка, скандалик, – заметила Мите как-то Аниса. – Каши просят прожорливцы столько, что и котла такого не найдёшь сварить. Да и самой крупы где эстоль сыскать?
Митроша понял, что тут тётя Аниса ничего не может поделать. А вот он и покажет, кто он такой в деле. Потом вежливенько попросит не путаться её под ногами.
На следующий день шёл он из школы, подобрал в канаве и прикатил шину с легковушки.
– Украл? – выразили скромное предположение Глебка с Антоней.
– Взял, – тактично подправил Митя.
– Раз взял колесо, так сгоняй ещё разик туда, забери всю машину.
– И без второго захода отхватите по целому легковику. Будете по лужам летать быстрей всякого автомобилика!
Мальчику хотелось, чтоб все в семье имели по две пары новеньких чуней. Одну пару на будни, другую на праздники. Чтоб не было обиженных, настроился шить размером всем одинаковые. У нас все равны, говорил в школе Сергей Данилович. Так пускай и обувку все носят одинаковую.
Снял мерку с подошвы маминой калоши, топором разрубил потёрханную шину на десять равных кусков. Больше подошв не выходило. Ну что ж, будет обувка пока на будни. С праздниками подождём.
С огнём завзятого сапожника, с каким-то внутренним горением навалился он пришивать к литой шине-подошве верх из отношенной кирзы голенища, макая цыганскую иголку не в мыло, как делал отец, а в простую воду в мамином напёрстке. Загляни Никиша в окно, он бы увидел в этом маленьком усерднике себя в далёкой родной Новой Криуше. Манера работать в наклон, слегка выпустив и прикусив язык, качающийся на вершинке жёлтой мётелкой хохолок – всё то его, Никишино.
Мальчика распирала гордость. Никто не учил, никто не заставлял, а спонадобилось – сам сел и шьёт. Сам! И разве хуже отца?
Подкатилась печальная отцова песня.
Митя не удержался, бесшабашно замурлыкал:
– Не осенний мелкий дождичек
Брызжет, брызжет сквозь туман,
Слезы горькие льет молодец
На свой бархатный кафтан.
Ожидавшие обновку Глеб и Антошка стояли в размолоченных ботинках у Мити за плечами, как ангелы. Подхватили припев яростно-прилежно, с укоризной:
– Полно, брат молодец,
Ты ведь не девица.
Пе-ей, тоска пройдет!
Митя благодарно покивал братцам и уже один взял повёл песню дальше.
– Не тоска, друзья-товарищи,
В грудь запала глубоко,
Дни веселья и дни радости