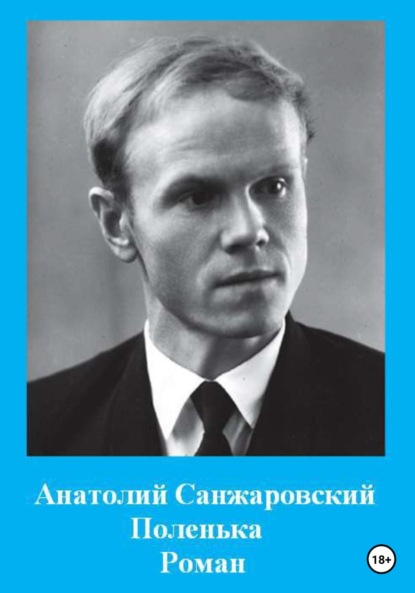По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Поленька
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Раки уговорились убежать. Столкнули фуражку в воду. А чтоб не утонуть – плавать раки не умели, – сели в фуражку и поплыли.
После столь сомнительного происшествия – на поверку, всё выскочило куда проще, мальчик просто забросил ненавистную фуражку в реку – Поля не стала покупать парню фуражки, и часто-густо, взяв себе платок, повязывала им сына, а сама бегала в старом.
Восседать с разодранными ногами неспособно. Подхватил, втянул под себя Антон одну ногу, встал, капризно хлопнув брата по руке, протянутой в помощь.
– Этот шаг не считается. Сначала! Я буду идти широко-широко. Как ты!
Снова ладит сделать порядочный шаг, снова ноги разъезжаются, снова шпагат.
– Пряник, кончай ломаться! Опоздаем на завтрик!
Напоминание про завтрак производит на Антона слабое впечатление. Он кисло переваливается с ноги на ногу. Глебка на бегу ловит братца за руку, в спехе тянет, и тот боком семенит за ним, откусывает тропку частыми-часты-ми шажками. Нежданно Антон ужимает ладошку трубочкой, выдёргивает из цепких сердитых пальцев, бдительность которых была усыплена внешней, притворной покорностью маленького лукавца.
– Ты не ходи за мной! – отскакивает Антон в сторонку.
– Почему?
– Кочерыжкой по кочану! Не ходи и всё. Я только нарисую след.
На ходу Антон снимает с ноги чуню вместе с носком. Босой ногой сторожко ступает в прохладу пыли на краю дороги, где её, пыли, всегда больше, чем на самой проезжине. След на обочинке живёт дольше, первая же машина не уметёт, не поломает его. Мальчик оглядывается, убеждается, что след спечатан чёткий, глазастый, довольно обувается.
– А чем тебе следы чуней не угодили? Легковушные ж следы!
– Так то неживые следы. Мертвячие.
За завтраком Антошик постреливал глазёнками в открытое окно за ряд ёлок, на дорогу, что пробегала у самого сада, прислушивался, переставал жевать, навязывая короткую безработицу всесокрушающим челюстям. Не идёт ли откуда машина? Не везёт ли беду?
Но вот мимо простонала на ухабах полуторка. Мальчик больше не едок. Высматривает, где там тётя Мотя Пенкина, воспитательша. Ага, собирает пустые тарелки и тихонько ужимает левый уголок рта. Она всегда стесняется своей сшитой на фронте нижней губы и старается, чтоб шов не так был виден. Сейчас тётя Мотя понесёт тарелки на кухню. Сто?ит той выйти, как он вышныривает из-за стола и во весь дух к своему следику.
Антоша лучезарно рад, увидев, что машина взяла правей, и он благодарно думает о шофёре. Вот заметил его следок, объехал, не смёл, поджалел чужой труд.
Зорче всматриваясь в след, подмечает, что он немного потускнел. Села свежая пыль от пробежавшей машины. Так след можно подновить, починить! Он раздевает одну ногу, торжествующе опускает её на старый след. Вот и всё в порядке!
Назад он скачет на одной ножке, скачет до самого сада.
На недоуменные взгляды воспитательницы ребятня радостно выкрикивает:
– А он живой! А он живой! А он весь живой!
Но через минуту-другую мальчика снова начинают подкусывать мысли про злые машины. С опаской косится он на окно, и как только проходит машина, в панике летит к следу. Возвращается разбитый. Плечишки опали, голова вниз. Не подымая глаз, находит Глеба за столиком – деловито изучал картинки. Лицом уткнулся ему в спину и заплакал.
– Ты что? Молчок, сверчок!
– Да-а, молчок… Машина след убила…
В слезах его столько горя, точно в самом деле лихая сила разрушила всё, что создал человек за всю жизнь, уничтожила всё, что составило его след в жизни. И разве так уж смешны его слёзы? Разве дорога к следу в жизни не может пойти со следа на пыли? Три года это тоже жизнь, у неё свой след. У всякого времени свои удачи, свои потери. Найти бы, кто отомстил бы обидчику. Антон понимает, какой брат ни самый старший в саду среди ребятни, какой ни сильный, а обидчика на вольной неизвестной машине уже никому не догнать. Сознание этого бессилия валит мальчика в ещё большее горе, он плачет ещё кручинней.
– Слышь… ну… хватит… А то я уже плыву, – жалеючи шепчет Глебка. – Не то обоих унесёт рекой от твоих слезов.
Мальчика не манит новая беда, он потихоньку замолкает.
Вошла воспитательница с маленьким ведёрком.
Глебка дёрнулся навстречу, взял ведёрко.
– А я разбежалась вклеить тебе выговорешник. Думаю, неужели наш Глебулеску на речах, как на органе, а на деле,
как на балалайке? В садике ж ни водиночки! Забыл сегодня про свои обязанности?
– Забыл, – краснеет Глеб. – Но я, тёть Моть, натаскаю. Я побежал.
Дразняще нагромыхивая ведёрком – слушай, мелкота! – Глебша пулей вылетает во двор и по двору вышагивает не спеша, обстоятельно. Знает, вся детворня подсыпалась к окнам, завистливо таращится. Вота счастливчик! Вота вольный казак! Куда левая нога захотела, туда и повела. А ты до самой ночи парься в саду!
Их горячие взгляды Глеб чувствует спиной и идёт вовсе не куда вздумается, а строго к роднику за дорогой и до обеда, подплывая по?том, таскает на кухню воду. Самый старший в саду, самый сильный, он сам напросился в помощники к поварихе, хиловатой, сухой, хоть в щель пролезть. Мелкокалиберного была замеса. Наносит ей на полный день, она не знает, как и благодарить. Поцелует, заслезится:
– На цельнай потопище водицы доспело. Вут спасибушка, сы?нка… Вут спасибушка…
И за обедом обязательно поставит перед ним алюминиевую мисочку попросторней.
Оставшись без брата один, Антон не примыкает ни к мальчишкам, ни к девчонкам. Он долго сидит один в углу, по-завхозовски строго перебирает игрушки. Поломанные налево, хорошие направо.
Как-то всё грустно вышло. Все игрушки оказались в левой кучке.
Может, все-таки пойти к девчонкам? К девчонкам его тянет, но с ними ему совестно. Набирается храбрости, идёт к ним в комнату, незаметно утягивается в дремлющий затенённый уголок, где его почти никто не видит из-за кроватки, а он видит всех.
Старшие девчонки с бамбуковыми спицами, учатся вязать. Стальных спиц нет, а бамбук вот он вот, за овражком. Нарежь, обчахни какой прутик, вот тебе спица. И спицы у девчонок настоящие, и нитки настоящие, и вяжут они вместе с тётей Мотей настоящие варежки, носки на фронт. Совсем рядом, по тот бок Кавкасиони, горела война. Адрес её был близкий. На Марухском перевале, под Моздоком, по всему Кавказскому хребту воевали их отцы, братья. А в горах с вечными снегами очень холодно.
Младшие в саду были вольношаталики. Ничего полезного не делали, только ели, спали, играли, а то и просто не знали, чем ещё заняться со скуки. Такое про Антона не скажешь. Из своего сумрака он жёстко, немо пялился на девчонок. Они хотели, чтоб он всегда был под рукой не потому лишь, что так преданно и в солидарность с ними носил косынку. Дело не в косынке, что само по себе и лестно девчонишкам, вся соль в его рыцарском покровительстве.
Одна половина сада имела необъяснимое желание носить косы. Другую сжигала неодолимая страсть дёргать за те косишки и вообще по прочим иным мотивам она врезалась в конфликты с прекрасной половиной детского сада. Хорошки нуждались в надёжных, в могучих заступниках, на ниве коих и подвизался наш юный геройка.
Думаете, в комнату к хорошкам его вело пустое, праздное лицезрение?
Вот он вошёл.
Девочки зацвели и ни одна не подбежала к нему. Это значило, сегодня ни одна не обижена. А будь обижена, непременно подошла б, взяла его за руку, и он, ничего не спрашивая, шёл бы за нею, пока дорога не упёрлась бы в плутишку, который разобидел. Показав на него, девочка вежливо чуть отходила, а Антон чувствительно шлёпал того по руке. Он считал, рука – зло. Люди дерутся руками, потому бил только по руке. Не протягивай! Бил всего разок, расплата укладывалась в одно касание. Ударив, с чувством свято исполненного долга поворачивался и уже он гордо вёл девчошку до того места, где она пихнулась к нему за защитой.
Случалось, нарывистый драчунелла давал сдачу. Тогда Антон со слезами тащил её, сдачу, и виновницу сдачи к Глебу. Тот без слов понимал всё. В бой теперь вступала тяжёлая артиллерия. Петушок сполна получал за наработанное, поскольку, как уже сказано, из детворы сильнее Глеба никого не было в саду.
Нынче весь день горе. До обеда Антон просидел пенёчком в углу, горестный, панихидный. Машина раздавила след…
Борщ да каша подживили его. Без спросу увеялся гонять ржавый обруч с бочкина живота. Подвывая тяжело нагруженной машиной, поталкивал перед собой обруч, излетал весь район. Наконец упрел от беготни, спрятал обруч в чайные кусты.
Надо бы уже назад, в сад, – нелёгкая возносит его на ёлку, на саму вершинку. Глянул вниз – кр?гом пошла голова, разнимаются пальцы.
Мальчик зажмурился, инстинктивно крепче обнял потеплевшее на солнце тело ствола. Затаился.
Он боится открывать глаза. Всё кажется, открой, тут же и рухнешь мешком. Он делает усилие над собой, капелечку разжимает один глаз, второй. Велит себе не пялиться вниз. Да и зачем вниз? Разве лез он любоваться отсюда землёй у ёлки?
После столь сомнительного происшествия – на поверку, всё выскочило куда проще, мальчик просто забросил ненавистную фуражку в реку – Поля не стала покупать парню фуражки, и часто-густо, взяв себе платок, повязывала им сына, а сама бегала в старом.
Восседать с разодранными ногами неспособно. Подхватил, втянул под себя Антон одну ногу, встал, капризно хлопнув брата по руке, протянутой в помощь.
– Этот шаг не считается. Сначала! Я буду идти широко-широко. Как ты!
Снова ладит сделать порядочный шаг, снова ноги разъезжаются, снова шпагат.
– Пряник, кончай ломаться! Опоздаем на завтрик!
Напоминание про завтрак производит на Антона слабое впечатление. Он кисло переваливается с ноги на ногу. Глебка на бегу ловит братца за руку, в спехе тянет, и тот боком семенит за ним, откусывает тропку частыми-часты-ми шажками. Нежданно Антон ужимает ладошку трубочкой, выдёргивает из цепких сердитых пальцев, бдительность которых была усыплена внешней, притворной покорностью маленького лукавца.
– Ты не ходи за мной! – отскакивает Антон в сторонку.
– Почему?
– Кочерыжкой по кочану! Не ходи и всё. Я только нарисую след.
На ходу Антон снимает с ноги чуню вместе с носком. Босой ногой сторожко ступает в прохладу пыли на краю дороги, где её, пыли, всегда больше, чем на самой проезжине. След на обочинке живёт дольше, первая же машина не уметёт, не поломает его. Мальчик оглядывается, убеждается, что след спечатан чёткий, глазастый, довольно обувается.
– А чем тебе следы чуней не угодили? Легковушные ж следы!
– Так то неживые следы. Мертвячие.
За завтраком Антошик постреливал глазёнками в открытое окно за ряд ёлок, на дорогу, что пробегала у самого сада, прислушивался, переставал жевать, навязывая короткую безработицу всесокрушающим челюстям. Не идёт ли откуда машина? Не везёт ли беду?
Но вот мимо простонала на ухабах полуторка. Мальчик больше не едок. Высматривает, где там тётя Мотя Пенкина, воспитательша. Ага, собирает пустые тарелки и тихонько ужимает левый уголок рта. Она всегда стесняется своей сшитой на фронте нижней губы и старается, чтоб шов не так был виден. Сейчас тётя Мотя понесёт тарелки на кухню. Сто?ит той выйти, как он вышныривает из-за стола и во весь дух к своему следику.
Антоша лучезарно рад, увидев, что машина взяла правей, и он благодарно думает о шофёре. Вот заметил его следок, объехал, не смёл, поджалел чужой труд.
Зорче всматриваясь в след, подмечает, что он немного потускнел. Села свежая пыль от пробежавшей машины. Так след можно подновить, починить! Он раздевает одну ногу, торжествующе опускает её на старый след. Вот и всё в порядке!
Назад он скачет на одной ножке, скачет до самого сада.
На недоуменные взгляды воспитательницы ребятня радостно выкрикивает:
– А он живой! А он живой! А он весь живой!
Но через минуту-другую мальчика снова начинают подкусывать мысли про злые машины. С опаской косится он на окно, и как только проходит машина, в панике летит к следу. Возвращается разбитый. Плечишки опали, голова вниз. Не подымая глаз, находит Глеба за столиком – деловито изучал картинки. Лицом уткнулся ему в спину и заплакал.
– Ты что? Молчок, сверчок!
– Да-а, молчок… Машина след убила…
В слезах его столько горя, точно в самом деле лихая сила разрушила всё, что создал человек за всю жизнь, уничтожила всё, что составило его след в жизни. И разве так уж смешны его слёзы? Разве дорога к следу в жизни не может пойти со следа на пыли? Три года это тоже жизнь, у неё свой след. У всякого времени свои удачи, свои потери. Найти бы, кто отомстил бы обидчику. Антон понимает, какой брат ни самый старший в саду среди ребятни, какой ни сильный, а обидчика на вольной неизвестной машине уже никому не догнать. Сознание этого бессилия валит мальчика в ещё большее горе, он плачет ещё кручинней.
– Слышь… ну… хватит… А то я уже плыву, – жалеючи шепчет Глебка. – Не то обоих унесёт рекой от твоих слезов.
Мальчика не манит новая беда, он потихоньку замолкает.
Вошла воспитательница с маленьким ведёрком.
Глебка дёрнулся навстречу, взял ведёрко.
– А я разбежалась вклеить тебе выговорешник. Думаю, неужели наш Глебулеску на речах, как на органе, а на деле,
как на балалайке? В садике ж ни водиночки! Забыл сегодня про свои обязанности?
– Забыл, – краснеет Глеб. – Но я, тёть Моть, натаскаю. Я побежал.
Дразняще нагромыхивая ведёрком – слушай, мелкота! – Глебша пулей вылетает во двор и по двору вышагивает не спеша, обстоятельно. Знает, вся детворня подсыпалась к окнам, завистливо таращится. Вота счастливчик! Вота вольный казак! Куда левая нога захотела, туда и повела. А ты до самой ночи парься в саду!
Их горячие взгляды Глеб чувствует спиной и идёт вовсе не куда вздумается, а строго к роднику за дорогой и до обеда, подплывая по?том, таскает на кухню воду. Самый старший в саду, самый сильный, он сам напросился в помощники к поварихе, хиловатой, сухой, хоть в щель пролезть. Мелкокалиберного была замеса. Наносит ей на полный день, она не знает, как и благодарить. Поцелует, заслезится:
– На цельнай потопище водицы доспело. Вут спасибушка, сы?нка… Вут спасибушка…
И за обедом обязательно поставит перед ним алюминиевую мисочку попросторней.
Оставшись без брата один, Антон не примыкает ни к мальчишкам, ни к девчонкам. Он долго сидит один в углу, по-завхозовски строго перебирает игрушки. Поломанные налево, хорошие направо.
Как-то всё грустно вышло. Все игрушки оказались в левой кучке.
Может, все-таки пойти к девчонкам? К девчонкам его тянет, но с ними ему совестно. Набирается храбрости, идёт к ним в комнату, незаметно утягивается в дремлющий затенённый уголок, где его почти никто не видит из-за кроватки, а он видит всех.
Старшие девчонки с бамбуковыми спицами, учатся вязать. Стальных спиц нет, а бамбук вот он вот, за овражком. Нарежь, обчахни какой прутик, вот тебе спица. И спицы у девчонок настоящие, и нитки настоящие, и вяжут они вместе с тётей Мотей настоящие варежки, носки на фронт. Совсем рядом, по тот бок Кавкасиони, горела война. Адрес её был близкий. На Марухском перевале, под Моздоком, по всему Кавказскому хребту воевали их отцы, братья. А в горах с вечными снегами очень холодно.
Младшие в саду были вольношаталики. Ничего полезного не делали, только ели, спали, играли, а то и просто не знали, чем ещё заняться со скуки. Такое про Антона не скажешь. Из своего сумрака он жёстко, немо пялился на девчонок. Они хотели, чтоб он всегда был под рукой не потому лишь, что так преданно и в солидарность с ними носил косынку. Дело не в косынке, что само по себе и лестно девчонишкам, вся соль в его рыцарском покровительстве.
Одна половина сада имела необъяснимое желание носить косы. Другую сжигала неодолимая страсть дёргать за те косишки и вообще по прочим иным мотивам она врезалась в конфликты с прекрасной половиной детского сада. Хорошки нуждались в надёжных, в могучих заступниках, на ниве коих и подвизался наш юный геройка.
Думаете, в комнату к хорошкам его вело пустое, праздное лицезрение?
Вот он вошёл.
Девочки зацвели и ни одна не подбежала к нему. Это значило, сегодня ни одна не обижена. А будь обижена, непременно подошла б, взяла его за руку, и он, ничего не спрашивая, шёл бы за нею, пока дорога не упёрлась бы в плутишку, который разобидел. Показав на него, девочка вежливо чуть отходила, а Антон чувствительно шлёпал того по руке. Он считал, рука – зло. Люди дерутся руками, потому бил только по руке. Не протягивай! Бил всего разок, расплата укладывалась в одно касание. Ударив, с чувством свято исполненного долга поворачивался и уже он гордо вёл девчошку до того места, где она пихнулась к нему за защитой.
Случалось, нарывистый драчунелла давал сдачу. Тогда Антон со слезами тащил её, сдачу, и виновницу сдачи к Глебу. Тот без слов понимал всё. В бой теперь вступала тяжёлая артиллерия. Петушок сполна получал за наработанное, поскольку, как уже сказано, из детворы сильнее Глеба никого не было в саду.
Нынче весь день горе. До обеда Антон просидел пенёчком в углу, горестный, панихидный. Машина раздавила след…
Борщ да каша подживили его. Без спросу увеялся гонять ржавый обруч с бочкина живота. Подвывая тяжело нагруженной машиной, поталкивал перед собой обруч, излетал весь район. Наконец упрел от беготни, спрятал обруч в чайные кусты.
Надо бы уже назад, в сад, – нелёгкая возносит его на ёлку, на саму вершинку. Глянул вниз – кр?гом пошла голова, разнимаются пальцы.
Мальчик зажмурился, инстинктивно крепче обнял потеплевшее на солнце тело ствола. Затаился.
Он боится открывать глаза. Всё кажется, открой, тут же и рухнешь мешком. Он делает усилие над собой, капелечку разжимает один глаз, второй. Велит себе не пялиться вниз. Да и зачем вниз? Разве лез он любоваться отсюда землёй у ёлки?