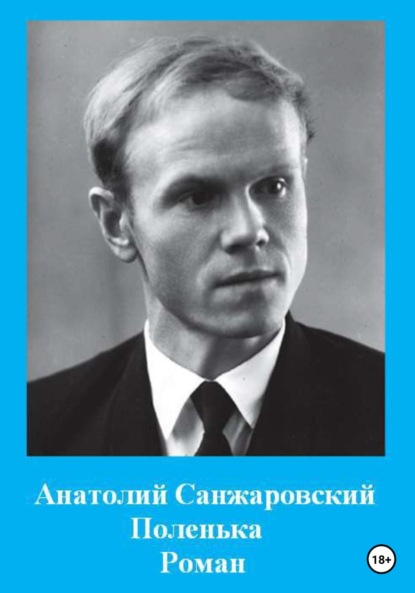По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Поленька
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Расписывайтесь.
Никита насупился, дёрнул носом и чиркнул свою завитушку. Вспотев, Поля поставила крестик.
– Вы расписались за то, что обязуетесь хранить тайны до могилы. Первая тайна та, что вы были раскулачены. Ни-ко-му ни слова, ни звучика. Даже родным детям. Даже через сто лет! С нового места высылки никуда ни на шаг. Наш незасыпный глаз вас видит всегда и везде… Побег с высылки – строгая камера хранения![47 - Камера хранения – тюрьма.] Вы предупреждены. Думайте, включайте мозги. Ваши головы пока с вами…
– Мы бы хотели уехать к знакомой в Казахстанец, – сказал Никита. – Тепло… малые парни…
– Хорошо, что сказали. Никаких знакомых! Казахстана вам не видать. Поедете, куда там, – он поднял указательный палец – велено. Заботливая власть об вас уже подумала. У вас трое малых детей. Надо вам в тёплую сторону. Добруша Софья Власьевна по-матерински узаботилась об вас и выписала вам литер в кавказский край-рай…В Насакирали… В тот совхоз свозят лишь завербованных да ссыльнопоселенцев… Работать надо невпритвор, это вы можете… доказали… Работа на отпад… не замёрзнете… Молодые, честные трудари… Понравится… И главное – южная местность…
И комендант, белобрысая чухонь, так расписал грузинский малярийный совхоз «Насакиральский», что молодые приняли его за рай. Ну как же не рай, раз тёплышко, шапок покупать не надо! Вокруг леса. В лесах всякой ягоды на полный год под самое «благодарю покорно» наберёшь. И потом, богатые валят деньжищи, если на солнце всё поглядывать[48 - На солнце всё поглядывать – лениво работать.] не будешь. Но разве привыкать волу к ярму? Работы Никита с Полей не боятся. Не из пужливых.
Совхозишко лет с пяток как завязался. На холмах сводят кустарники, по низам сушат болотину. Расселяют чаёк, мандарины, тунги.
С марта по глухую осень мужики в одних рубашечках. На Октябрьскую девчошки без головы[49 - Без головы (здесь) – с непокрытой головой.] в платьишках в летних картинничают. Такой только перушко в ягодку вложи да на ветер пусти, она и полетит. В феврале фиалки цветут! А снежок ежель и падёт ночью, к полудню испарился. И вообще снег там в праздник, солнце за обычай. Иначе разве б купались по полгода в Скурдумке, в Супсе? Эти речки омывают совхозные закрайки. А ж-жалаешь, можно на море дёрнуть. На Чёрное. Близко! В каком получасе на поезде. Но зачем поездом? Бывает, по воскресеньям совхоз катает на своих машинах. Купайся на халявушку до утопа!
И через всю страну посунулись молодые северяне в слезах с Белого моря на Чёрное. Стариков-то, стариков от них оторвали и одних воткнули в Сибирь… Без права переписки….
Только-только вросли Долговы в малярийную грузинскую гниль, ан разлилась война.
10
Все постоянно лишь за морем
И потому, что нас там нет.
А между тем, кто минут горем?
Никто… Таков уж белый свет!..
На третий день войны, во вторник, Никиту позвали повесткой в военкомат, в Махарадзе, и комиссия всей-то час вертела его так и эдако, но из-за опухоли на ноге ни под какую статью не поджала, отбраковала. А он был уже рад-радёшенек сунуть голову парикмахеру в коридоре. Едва вываливался от комиссии признанный в годные, как крюковатый ветхий цирюльник подманивал бледным пальцем – а давай-да бумажкю! – и в согласии с той бумажечкой слизывал чуприну. «Вот подберёт мне космочки старинушка… обрядит… На войну надо при полном параде, в опрятности! Гм… Покойника тоже провожают чистеньким. И войне подай чистенького? Чтоб проглотила и не запачкалась? А не подавится?»
Домашне, просто сказал военком:
– Вот подживёт ваша нога, месяца через четыре призовём в конники. А пока идите растите деток, припасы какие делайте для дома.
Выбрел Никита во дворок, привалился боком к штакетнику, никак не придёт в себя от комиссии. Мятежные глаза ловят, как катят с порожек всё чистенькие, от парикмахера всё уже, и обида затягивает его.
Как же так? Изо всех призывников один только он в негодности, один только он мимо парикмахера? Неужели он хуже всех? Ни в избе ни во дворе?..
С приступок уныло топает Анис Семисынов, первый его в совхозе закадыка. Никита с Анисом с первой встречи хорошо вошли в дружбу. Земели воронежцы. Слегка родня. Их сарай нашему плетню двоюродный дядя. Может, родня не тесней и той, когда чужой плетень горел, а их деды только руки грели. А всё ж роднюки. Свои. Анис лохматый, неприбранный.
– Ты чего некошёный? – хмуро допытывается Никита.
– Как же мне быть кошёну, ежли на тебе сломалась у дедка машинка? – постно отшучивается Анис.
«Похоже, не последняя я спица? Не одному мне отбой?» Просторная улыбка трогает Никиту:
– Если б да кабы во рту росли грибы, тогда был бы не рот, а был бы огород! Выходит, из всего совхозного калгана лишь ты да я мимо стригаля стриганули?
– Выходит… – Анис надломленно кривится. – Как сказали, что погодят брать, у меня с удивления рожа на шестую пуговицу вытянулась… Состряпали таракана с лапами… Айдаюшки глянем, что за лапы у нашего у таракана…
В магазине Анис добыл бутылку красненького, прозванного одним стриженым чтоб пуля плохо брала, да по смоченному яблочку, хлестнули прямо из горлышка, не тратясь и не прося ни у кого стакана. «Мы не стакановцы!»
Потешно было Анису со стороны наблюдать, как это Никиша, и в рот не бравший бабьи слёзки, вдруг на радостях дёрнул горнистом полбутыли, и теперь, отписывая кренделя, усердно норовил шествовать как по струнке, но питое из горлышка срезало его старания на нет, бегом заводило то в канаву и тут же бегом выносило, то толкало с силой вперёд, так что он несколько пробегал сноровистым коником, то вдруг ни с того ни с сего заставляло сделать широченный резкий шаг в сторону. Он добросовестно, послушно его делал, а сделав, случалось, останавливался и думал, что это он такое делает, зачем делает, однако скоро забывал, о чём думал, и снова пробовал взять шаг к дому. Зуделось ему показаться перед Полей отчаюгой. Она никогда не видела его подогретым. Так пускай увидит!
Он отрешенно бойко вскинул ногу, хлопнул под нею ладошками. Назидательно погрозил пальцем ворчавшему за плетнём псу:
– Не боись… Я не тро… не т-трону…
И запел рычащему псу, вселюбовно раскинув руки:
– И-ие-ехала д-деревня м-мимо м-мужика-а,
Вдруг из-под с-собаки-и вышли в-ворота.
Кнут из-под телеги вын-нул м-мужика,
Хвост согнул собаку – шмыг под ворота!..
Пёс деликатно выслушал пенье и лениво щёлкнул зубами. Идите, идите! Не замайте! Хорошего понемножку!
Анису не понравилось это вульгарное щёлканье. Пригрозил вареным кулачком:
– Соб-бачка… не дражнись… Не дражни дядю…
Барбос понуро авкнул, зевнул и утащился от греха подальше в прохладу садовой глуши.
– Анисушко! Что-то на душе душно… А не смочить ли моим «Дождичком»?
– Это можно…
Красивым, вязко-бархатным тенором Анис запевает про осенний мелкий дождичек, что сеет, сеет сквозь туман. Никиша сомлело вслушивается в начальные слова, угрюмо подхватывает и себе. Песня эта у него первая. Пел один, любил петь её с Анисом. И не понять Никите, почему эта жалоба о безответной любви умягчает его душу, поталкивает к слезам.
С посуровевшими лицами долго брели братилы молча. Каждый думал своё. Худо-бедно, всё было ясно ещё позавчера. Заведенная пружина жизни раскручивалась привычно. Работа. Дом. Семья. Война же сломала всё. Что с ними будет через месяц? Через день? Через час?
Как-то разом, не сговариваясь, в один голос запечалились они мучительно бездольно:
– Ах как далече, далече в чистом поле
Раскладен там был огонёчек малешенек,
Подле огничка разостлан шелковый ковер.
На ковричке лежит добрый молодец,
Припекает свои раны кровавые.
В головах его стоит животворящий крест,
По праву руку лежит сабля вострая,
По леву руку его крепкий лук,
А в ногах стоит его добрый конь.
При смерти добрый молодец сокрушается
И сам добру коню наказывает:
«Ах ты, конь мой, конь, лошадь добрая,
Ты видишь, что я с белым светом разлучаюся
И с тобой одним прощаюся.
Ты зарой мое тело белое
Среди поля, среди чистова,
Среди раздольица, среди широкова.