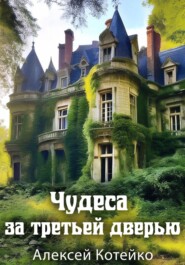По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сказки старых переулков
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
За обедом говорили, разумеется, о войне. Война гремела где-то далеко, и доносилась до города тревожными, либо восторженными – смотря по положению фронтов – заголовками газет. «Лань» уходила во втором часу ночи, с третьей эскадрой Южного флота. Уходила в туманную даль, туда, где тонули корабли, и форты на высоких скалах щетинились дулами пушек в дымной завесе. Десять фрегатов, дюжина малых вспомогательных судов, три тысячи матросов и четыре тысячи солдат десанта, не считая всяческих грузов военного назначения.
Хозяин дома слушал молча, потягивая вермут, и с прищуром глядя на ухажёра дочери.Молодой капитан был горд, и долго рассказывал дамам, как быстро закончится эта война, когда в военные действия вступят третья Южная, а с ней вторая и четвёртая Западные. Цепь каких-то островков, пять разбросанных на них городишек и центральный порт – работы на две недели, не больше. А там триумф, победа, новые звания и награды.
Адмирал, скрепя сердце, благословил их помолвку три месяца тому назад, но теперь что-то не давало ему покоя. То ли самоуверенность капитана, то ли восторженные взгляды жены и дочери. Адмирал вспоминал собственную молодость, но готов был поклясться, что никогда, никогда он не выглядел так глупо, как теперь этот птенец, который едва научился махать крылышками, а уже возомнил себя вольной птицей. В старой Академии им, вместе с морскими науками, вдалбливали уважение. Уважение к морю, уважение к делу, уважение к врагу. Похоже, с тех времён многое поменялось, и врага теперь принято унижать – в газетах, словах, и, если повезёт, на деле. А потом удивляться, что враг начинает при случае платить тем же.
– А не могут ли они сами прийти сюда? – спрашивала невеста.
– О, исключено! Город прекрасно защищён, им не прорваться через береговые укрепления, к тому же в гавани всегда множество военных судов – это просто самоубийство! Блокировать порт? Даже случись подобное, мы легко разорвём осаду.
И вновь дамы слушали, и вновь адмирал молча пил маленькими глотками вермут, и через дым сигары с прищуром рассматривал молодого речистого капитана.
* * *
Не помогли ни береговые укрепления, ни суда в гавани. Неприятель ворвался лихо, с ходу отрезав и начисто истребив гарнизон форта на скалистом острове – выдвинутый от города передовой дозор. Пока с маяка погибавшего форта отчаянно сигнализировали порту, вражеские фрегаты были уже у входа в бухту. У причалов и на набережной начался ад.
Ядра рвались повсюду, картечь щедро осыпала суетящихся людей, и на камнях, на белёных стенах портовых зданий, на палубах, расцветали мелкие капельки крови. Из третьей эскадры, так и не успевшей покинуть гавань, три фрегата сразу пошли ко дну. Ещё два предприняли отчаянную самоубийственную попытку прорваться, и погибли на середине бухты.
Но у эскадры действительно был прекрасный командир. Контр-адмиралу было сорок с небольшим, и его виски только-только успели побелеть – а некоторые в его командах не встретили и двадцатой весны. Их набралось около двух сотен, по минимуму на каждый из уцелевших фрегатов. Прикрываясь разбитыми, уже полузатопленными бедолагами на середине фарватера, они сумели, ведя перестрелку с вражескими судами, подойти к самому выходу из бухты. Здесь, в узкой горловине прохода, ширина которого едва позволяла разминуться борт о борт трём крупным кораблям, половина когда-то великолепной третьей эскадры приняла последний бой.
Но не бой был их целью. По приказу контр-адмирала фрегаты были подорваны и один за другим пошли на дно. Они легли на скалы почти под самой поверхностью, из команд после боя и затопления судов лишь около сотни матросов сумели добраться вплавь до берега – но порт был спасён. В запертую горловину бухты доступ крупным вражеским кораблям оказался закрыт, и вместо высадки десанта они вынуждены были начать блокаду порта.
– Самое страшное, что вторая Западная должна прийти буквально на днях! – молодой капитан уже не так самоуверенно ковырял вилкой в остывшем обеде. Дамы по-прежнему слушали его, но теперь со смутной тревогой, которую сулил завтрашний день.
Вражеская флотилия блокировала порт уже неделю, опорной базой для противника стал захваченный форт. Батареи на скалах у входа в бухту превратили в кучу каменных обломков. Попытки выстроить новую батарею потерпели неудачу: строителей смело шквальным огнем, на открытом пространстве негде было укрыться. Правда, те же скалы не могли послужить и для десантной операции: две или три попытки высадки легко пресекли орудия порта, перемолов и людей, и шлюпки, а прибой и камни довершили начатое.
Счастье ещё, что противник, видимо, решил не тратить зря боеприпасов, и перестал обстреливать набережную после того, как большая часть крупных судов в порту оказалась повреждена или затоплена. Однако люди всё равно всякий раз с большой опаской покидали свои дома, а вниз, к причалам, без особой надобности не спускался никто. Даже солдаты, матросы и докеры работали там урывками, стараясь поменьше высовываться из-за наспех сооружённых укрытий.
Молодой капитан ещё долго рассказывал о том, чем грозит приход второй Западной, «которая непременно, простите за каламбур, угодит в западню». И снова адмирал тянул вермут и курил, но уже не глядя на жениха дочери, а задумчиво рассматривая в окно порт и силуэты скал у выхода из бухты.
* * *
Первые несколько часов никто не мог толком объяснить, что же произошло, и как так вышло, что сначала загорелся и взлетел на воздух вражеский флагман, а за ним, один за другим, пошли взрываться остальные суда эскадры.
Потом хватились пропавших рыбацких лодок.
Потом выяснилось, что с плотницкого склада вынесены три десятка бочек со смолой, а со склада флотских припасов – сотни две мешков пеньки для канатов.
Потом оказалось, что пятьдесят бочек пороху взято из арсенала. Не досчитались и оружия – сабель, топоров, крючьев, ручных гранат и пистолетов. Набор добротной абордажной команды.
И всюду часовые божились, что им отдал приказ человек в адмиральском мундире, за которым шли молчаливые тени, похожие то ли на матросов, то ли на пиратов, а вернее всего – на привидений.
Наконец, уже на рассвете обнаружилось, что в Доме инвалидов, где на скромном пенсионе доживали свой век одинокие отставные моряки, не осталось ни одного постояльца. Исчезли все двести сорок восемь человек, включая больных из карантинного крыла.
В другой части города дворецкий около шести часов утра вошёл в спальню адмирала, чтобы, как всегда, подать ему горячую воду для умывания и бритья, но обнаружил, что постель хозяина даже не тронута. Лишь на комоде громоздилась стопка пустых бархатных коробочек, из которых пропали все награды.
А позже, много позже, когда в город стали приводить небольшие колонны пленных – немногих уцелевших с вражеской эскадры, снятых со скал бухты – и в здании Адмиралтейства была наспех устроена следственная комиссия, и начались допросы…
Один из морских пехотинцев – он как раз в ту ночь был в числе часовых на флагмане – показал, что около полуночи по левому, обращённому к бухте борту, различил плеск весел. На окрик: «Кто плывёт?» ответа не последовало, и часовой, согласно инструкции, вскинул мушкет, целясь на плеск, когда в темноте вдруг затеплился фонарь.
Он был близко, очень близко к борту, хотя поначалу казалось, что вёсла опускаются в воду минимум в сорока-пятидесяти саженях от корабля. На носу то ли шлюпки, то ли ялика стоял седой человек, он-то и держал фонарь в руке. Одет человек был в мундир адмирала, и в свете фонаря блестели ордена и медали на его груди. А на вёслах сидели молчаливые фигуры – то ли люди, то ли призраки, и между банками плотно были напиханы мешки и бочки.
Часовой и сам не мог объяснить, почему не выстрелил. Все происходящее казалось каким-то нереальным сном. Человек в адмиральском мундире скомандовал: «Крюки!» – и фигуры метнули на флагман абордажные кошки. После команды: «Огонь!» – на палубу полетели ручные гранаты, обмотанные просмоленными тряпками. Всё это заняло не больше секунды, и сразу после того, как прогремел взрыв – выбросив за борт пехотинца и разметав по палубе его товарищей – человек скомандовал: «Вперёд!», бросив свой фонарь на груз в лодке.
Никто, разумеется, не поверил в рассказ пленного. Где это видано, чтобы привидения брали на абордаж суда, да ещё поджигали их? Да и откуда взялись эти привидения? Не инвалиды же, в самом деле, соорудили брандеры, и на них уничтожили целую эскадру! Но это же бред, бред полнейший! Команда мстителей? Разбитые ревматизмом старики?! Маразматики, калеки, убогие, никому не нужные ветераны флота?! Да полноте, батенька, шутки вам всё…
И только в глазах допрашиваемых плескался где-то глубоко на донце страх. И словно виделась в них фигура в адмиральском мундире, и суровые, молчаливые тени, взбирающиеся по натянутым тросам кошек на палубы кораблей. Раз за разом отбивающие попытки оттолкнуть пылающие брандеры от борта, подрывающие крюйт-камеры, сгорающие вместе с эскадрой.
Было?
Не было?
Сгорели?
Растаяли с утренним туманом?
Кто их разберёт…
А утром следующего дня в порт пришла вторая Западная.
История восьмая. «Чужая война»
Кошка стояла на пороге квартиры и жалобно мяукала. Лёнька звал её, но Люська только переступала лапами в белых «носочках», подёргивала ушами с маленькими кисточками на концах – и не двигалась с места. Сам же он будто прирос к лестничной площадке, и какая-то невидимая стена не позволяла ему сделать ни шагу к распахнутой двери квартиры, за которой прихожая почему-то превратилась в чёрный бездонный прямоугольник.
Тяжёлый, муторный сон прервался резко, словно кто-то выключил радио – и Лёнька понял, что всматривается вовсе не в дверь своей прежней квартиры, а в потолок комнаты. Что за приоткрытыми створками окна тихо шелестит листвой росший у дома пирамидальный тополь, и что ветер, запутавшийся в занавесках, принёс с собой откуда-то издалека короткое кошачье мяуканье. Только слёзы из сна оказались настоящими – потому что и там, и наяву, Лёнька знал, что Люськи уже нет.
Кошки не стало ещё прошлым летом, и, может быть, поэтому все хлопоты вокруг переезда слились для мальчика в серый безрадостный туман. Такой иногда бывал в его родном городе – далеко на севере, на берегу свинцово-серого моря. Туман наползал с залива, и окутывал длинные шеренги выстроившихся стена к стене домов, заливал колодцы дворов и двориков, скрадывал очертания мостов, перепоясывавших то широкие, то совсем узенькие каналы и протоки. Здесь Лёнька родился, здесь четыре года ходил в школу, здесь остались бабушка и друзья – а ему пришлось уехать вместе с родителями, получившими новое назначение, на юг, в небольшой городок, который взрослые между собой называли «провинциальным».
Городок этот когда-то давно шагнул из-под зелёного полога боров и дубрав – да так и остался стоять на опушке, глядя в зарождающиеся степи, которые далеко за горизонтом превращались в травяное море. Он и раскинулся вольно, по-степному: широкие улицы, просторные дворы, стоящие обособленно друг от друга дома – но, не пожелав расстаться с лесным своим прошлым, весь оброс деревьями и кустами. Цвела в палисадниках сирень, перемежаемая колючим шиповником, деловито гудели в высоких мальвах шмели, карабкался по штакетникам упрямый вьюнок. Со вполне обжитыми и ухоженными домиками запросто соседствовали одичалые сады, почерневшие от непогоды, скособоченные срубы, огрызки кирпичных стен. Высоким по здешним меркам считалось здание в пять-шесть этажей, и таких в городе было немного, в основном вокруг нескольких главных улиц. Но стоило только свернуть с любого из проспектов – и открывался настоящий лабиринт переулков и тупичков, петлявших по городским холмам, чтобы, в конце концов, вывести вниз, к реке, и отлогому, протяжному речному плёсу.
И в этих переулках никогда не прекращалась война.
Мальчишечьи ватаги разграничивали свои владения только по им одним известным правилам, и правила эти постоянно нарушались, потому что то и дело Слободка схватывалась с Карьером, Верхние Гаражи выясняли отношения с Нижними, а шайки из района, ограниченного тремя магистралями, и потому прозванного Треугольником, ходили в набег на Заводские дворики – квартал двух– и трёхэтажных малоквартирных зданий, полумесяцем охватывавший цеха кирпичного завода.
Все это Лёнька узнал довольно скоро, как и то, что сам он – в силу нового места жительства – оказался причислен к Кольцу. Четырёхэтажный дом стоял одним боком к пограничной для мальчишек Левадовской улице, за которой начиналось Болотище, а другим боком – к частному сектору и небольшой круглой площади, похожей на кольцо. Из Лёнькиных окон можно было увидеть саму площадь, заросшую высокой травой, и сложенные на ней штабелями старые электрические столбы и деревянные шпалы. Мальчишки с Кольца в своё время потратили немало сил, расчистив самый центр завалов, и устроив по периметру подобие крепостной стены. Разумеется, доступ в Форт чужакам был заказан. Разумеется, чужаки – особенно с Болотища – раз за разом пытались прорваться на запретную территорию.
Запах дёгтя от шпал, постоянно витавший в Форте, напоминал Лёньке ещё об одной потере: в его родном городе трамвай был, а здесь – не было. Сонному «провинциалу» хватало деловито фыркающих автобусов с большими круглыми фарами, похожими на удивлённые глаза. Но Лёнька скучал по трамвайному трезвону и залихватскому лязгу, с каким вагончики проносились по его родной улице: с одной стороны – дома, тротуар и полоса асфальта, с другой – тёмная вода канала за чугунной решёткой набережной. Из новых приятелей, появившихся за тот год, что он проучился в здешней школе, про трамвай никто даже не слышал, а когда Лёнька пытался рассказать, что это такое, по описанию выходило нечто вроде поезда, который сам собой ездит по городу без паровоза. Так что Лёнька, в конце концов, оставил свои попытки, и только во снах время от времени ему удавалось прокатиться по рельсам вдоль канала.
* * *
– Щербаковские! Щербаковские идут!
– Щербаковка двинулась!
Новость разнеслась по прилегающим к Кольцу переулкам в считанные минуты, и те из мальчишек, кто на летние каникулы оставался в городе, вскоре уже усеяли стены своего Форта. Щербаковка располагалась чуть дальше по той же улице, на «их» стороне, но на этом сходство заканчивалось. Большинство тамошних ребят ходили совсем в другую школу, и потому квартал одинаково воевал и с Кольцом, и с Болотищем, и с теми, кто жил ещё дальше, в военном городке и за дворцом культуры.
Лёнька сидел на углу Форта, задумчиво отковыривая щепки от старой шпалы, и кидая их вниз. Драки он не боялся, но в то же время не горел желанием в ней участвовать. Даже спустя год, даже с появлением новых знакомств, даже после велосипеда, о котором он мечтал ещё на севере, и который родители подарили ему на день рождения весной – Лёнька чувствовал себя чужим в этом городе. Дом оставался чужим, и его комната не была его. Ему было непонятно, за что воюют здешние мальчишки, и почему вдруг нельзя пройти по какой-то стороне улицы, или заглянуть в какой-то квартал. Почему белым морем цветущих садов, в которое превращалась весной Слободка, приходится любоваться издалека, а на Карьере (который, на самом деле, был одной из центральных улиц, и гордился множеством магазинов в первых этажах), можно появляться только вместе с родителями. Это была не его война, а потому и не его бой, но Лёнька прекрасно знал, что отказавшись, прослывёт трусом, и тогда жизнь на новом месте станет ещё тяжелее.
Щербаковские в этот раз вторглись через Лёнькин двор, и от четырёхэтажки сразу направились в проулок между высокими заборами, выходивший прямо к маленькой кольцевой площади. Их пропустили через двор, но уже на выходе из проулка местные мальчишки встали плотной стеной, и едва все чужаки оказались в теснине длинных заборов, выделенный специально для этой цели отряд (манёвр, подсмотренный в недавно шедшем в кинотеатре фильме про войну), перекрыл ребятам со Щербаковки пути к отступлению. Лёнька невольно поморщился: драка предстояла жёсткая, у многих щербаковских были в руках палки, кое у кого виднелись выломанные по пути штакетины, а глубже в толпе даже маячила пара хоккейных клюшек.