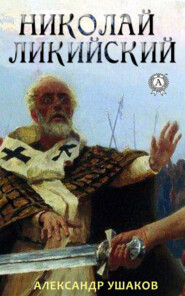По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ататюрк: особое предназначение
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И всё-таки самым активным участником и регулятором в реорганизации экономики страны всё более становился внешний рынок и его главные участники – развитые страны.
Олицетворением этих явно неравноправных связей продолжало оставаться Управление Оттоманского долга и сохранявшийся с давних времен капитуляционный режим.
Как мы помним, в конце XIX века управление государственными финансами перешло под контроль иностранных держав – главных кредиторов империи.
Такой порядок сохранялся и при младотурках и был отменён при кемалистах.
Турецкие рынки давно контролировались Европой, впереди была Австро-Венгрия и Германия, за ними следовали Италия, Англия, Франция, Бельгия, США и другие страны.
Они контролировали 90 % ввоза в империю.
Накануне Первой мировой войны степень включенности хозяйственных структур Османской империи в жизнедеятельность мирового капиталистического рынка (при минимальном наличии внутреннего) достигла наибольшего уровня.
И уже в 1913 году около 26,5 % общего объема сельскохозяйственного производства империи шло на экспорт.
Общая стоимость османского экспорта по отношению к ВНП составляла тог даже свыше 14 %, а стоимость импорта оценивалась в 19,4 % ВНП империи.
Стремясь расчистить путь для национальной буржуазии, младотурки начали осуществлять политику жестоких репрессий против греческого и армянского населения.
Эта политика проводилась «Особой организацией».
Ни к чему хорошему она не привела, поскольку заменить грамотных и знавших свое дело христиан оказалось не так-то просто.
В этой связи интересно ознакомиться с тем, как видели лидеров революции на Западе.
«Даже в местности с такой зловещей репутацией, как Константинополь, – писал Мурхед Алан в своей книге «Борьба за Дарданеллы», – трудно представить себе подобную странную группу лиц.
В младотурках было что-то неестественное, какая-то дикая и устарелая театральность, которая вроде бы знакома и в то же время совершенно нереальна.
Невольно склоняешься к тому, что это персонажи какого-то фильма о гангстерах, наполовину документального, наполовину воображаемого, и было бы нетрудно предать их тому удобному забвению, которое обычно окутывает большинство политических авантюристов, если бы они как раз в этот момент не обладали такой властью над многими миллионами людей.
Сэр Гарольд Николсон, бывший в то время младшим секретарем британского посольства, вспоминает, как они однажды все вместе явились к нему домой на ужин.
«Был Энвер, – пишет он, – в своей скромной короткой форме.
Руки покоились на эфесе, маленькое лицо брадобрея задрано над прусским воротничком.
А вот Джемаль.
Белые зубы сверкают тигровым блеском на фоне черной бороды.
У Талаата выделяются огромные цыганские глаза и красновато-коричневые цыганские щеки.
Невысокого роста Джавид свободно говорит по-французски, ходит, подпрыгивая, вежлив».
Странно, конечно, что они вообще существовали, что им вообще досталась власть в мире, где все еще понятия не имели о нацистах и фашистах в униформе, о коммунистических чиновниках на банкетах.
Талаат был человеком экстраординарным, но все равно ему свойственна была определенная приземленность, из-за чего его легче понимали, нежели остальных.
Он был партийным руководителем, крупного сложения, твердого, спокойного характера, и вместо веры он обладал инстинктивным пониманием слабостей человеческой натуры.
Свою карьеру он начал почтовым телеграфистом и никогда внешне не производил впечатления чего-то большего.
Даже став министром внутренних дел – пост, который, может быть, был ему предназначен самой природой, так как он практически стал контролером комитетского аппарата, – он все еще держал у себя в кабинете на столе телеграфный коммутатор и, казалось, громадными кистями отстукивал на нем распоряжения своим коллегам.
Уже долгое время после того, как другие облачились в форму, завели себе телохранителей и перебрались в роскошные виллы на берегах Босфора, Талаат продолжал жить в шатком трехэтажном деревянном доме в одном из беднейших районов Константинополя.
Американский посол Генри Моргентау как-то днем неожиданно заехал к нему домой и обнаружил его в плотной пижаме и с феской на голове.
Дом был обставлен дешевой мебелью, стены ярко разрисованы, а пол устлали изношенные коврики.
А жена-турчанка Талаата во время их беседы то и дело украдкой нервозно подсматривала за мужчинами сквозь решетчатое окно.
Большинство из иностранцев, знавших Талаата в то лето, были о нем высокого мнения, некоторым он даже нравился.
Моргентау всегда считал, что может его развеселить, и в эти моменты исчезала дикая озабоченность, темное цыганское лицо расслаблялось, и Талаат был в состоянии вести разговор, проявляя огромную искренность и умственные способности.
Как говорит Обри Нерберт, в нем были «сила, твердость и почти первобытное добросердечие, а свет в его глазах редко можно было встретить у людей. Скорее, иногда у животных на закате солнца».
И все же Талаат при всей остроте его ума и самообладании не допуская эмоций, видимо, ощущал потребность в людях действия вроде Энвера.
Энвер был чудаком, неким своенравным ребенком, шокировавшим и сбивавшим с толку их всех.
Он был наделен какой-то мрачной и сложной привлекательностью, которая скрывает истинный возраст или мысли.
И если Талаат походил на Уоллеса Бири из немых фильмов, то Энвер при всей его развязности – на Рудольфа Валентине.
Он родился в Адано, на берегу Черного моря.
Отец его, турок, был смотрителем моста, а мать-албанка занималась трудом, считавшимся одним из самых низких в этой стране, – готовила мертвецов к погребению.
Может быть, свой крайне привлекательный вид мальчик унаследовал от бабушки-черкешенки, но остальные качества, похоже, были сформированы им самим и находились в замечательном равновесии друг с другом.
Он был исключительно тщеславен, но это был особый вид тщеславия, которое скрывалась под внешней скромностью и стеснительностью, а его безрассудная храбрость в действиях компенсировалась столь холодной, столь спокойной и невозмутимой внешностью, что можно было подумать, что он наполовину спит.
На службе он демонстрировал такое достоинство манер, что, казалось, никакая беда не способна смутить его, а любое решение, какой бы важности оно ни было, требовало от него лишь нескольких мгновений для размышлений.
Даже свое честолюбие он скрывал с той же явной легкостью, с какой он перемещался среди людей, принадлежавших к куда более высококультурному обществу, чем его собственное.
Неудивительно, что при его легкости и очаровании он создал себе столь высокий авторитет у властей предержащих того времени; вот вам юный кавалерист в реальной жизни, скромный молодой герой.
И все это служило самым эффективным прикрытием для врожденной жестокости, мелочности и убогой мегаломании, таившейся в глубине.
Начиная примерно с двадцати пяти лет, когда он окончил колледж военного штаба в Константинополе, карьера Энвера была особенно бурной.
Его специальностью стали свержение правительств физическими методами, внезапные вооруженные налеты на государственные учреждения.
В последних войнах он приобрел репутацию замечательного командира командос.
Олицетворением этих явно неравноправных связей продолжало оставаться Управление Оттоманского долга и сохранявшийся с давних времен капитуляционный режим.
Как мы помним, в конце XIX века управление государственными финансами перешло под контроль иностранных держав – главных кредиторов империи.
Такой порядок сохранялся и при младотурках и был отменён при кемалистах.
Турецкие рынки давно контролировались Европой, впереди была Австро-Венгрия и Германия, за ними следовали Италия, Англия, Франция, Бельгия, США и другие страны.
Они контролировали 90 % ввоза в империю.
Накануне Первой мировой войны степень включенности хозяйственных структур Османской империи в жизнедеятельность мирового капиталистического рынка (при минимальном наличии внутреннего) достигла наибольшего уровня.
И уже в 1913 году около 26,5 % общего объема сельскохозяйственного производства империи шло на экспорт.
Общая стоимость османского экспорта по отношению к ВНП составляла тог даже свыше 14 %, а стоимость импорта оценивалась в 19,4 % ВНП империи.
Стремясь расчистить путь для национальной буржуазии, младотурки начали осуществлять политику жестоких репрессий против греческого и армянского населения.
Эта политика проводилась «Особой организацией».
Ни к чему хорошему она не привела, поскольку заменить грамотных и знавших свое дело христиан оказалось не так-то просто.
В этой связи интересно ознакомиться с тем, как видели лидеров революции на Западе.
«Даже в местности с такой зловещей репутацией, как Константинополь, – писал Мурхед Алан в своей книге «Борьба за Дарданеллы», – трудно представить себе подобную странную группу лиц.
В младотурках было что-то неестественное, какая-то дикая и устарелая театральность, которая вроде бы знакома и в то же время совершенно нереальна.
Невольно склоняешься к тому, что это персонажи какого-то фильма о гангстерах, наполовину документального, наполовину воображаемого, и было бы нетрудно предать их тому удобному забвению, которое обычно окутывает большинство политических авантюристов, если бы они как раз в этот момент не обладали такой властью над многими миллионами людей.
Сэр Гарольд Николсон, бывший в то время младшим секретарем британского посольства, вспоминает, как они однажды все вместе явились к нему домой на ужин.
«Был Энвер, – пишет он, – в своей скромной короткой форме.
Руки покоились на эфесе, маленькое лицо брадобрея задрано над прусским воротничком.
А вот Джемаль.
Белые зубы сверкают тигровым блеском на фоне черной бороды.
У Талаата выделяются огромные цыганские глаза и красновато-коричневые цыганские щеки.
Невысокого роста Джавид свободно говорит по-французски, ходит, подпрыгивая, вежлив».
Странно, конечно, что они вообще существовали, что им вообще досталась власть в мире, где все еще понятия не имели о нацистах и фашистах в униформе, о коммунистических чиновниках на банкетах.
Талаат был человеком экстраординарным, но все равно ему свойственна была определенная приземленность, из-за чего его легче понимали, нежели остальных.
Он был партийным руководителем, крупного сложения, твердого, спокойного характера, и вместо веры он обладал инстинктивным пониманием слабостей человеческой натуры.
Свою карьеру он начал почтовым телеграфистом и никогда внешне не производил впечатления чего-то большего.
Даже став министром внутренних дел – пост, который, может быть, был ему предназначен самой природой, так как он практически стал контролером комитетского аппарата, – он все еще держал у себя в кабинете на столе телеграфный коммутатор и, казалось, громадными кистями отстукивал на нем распоряжения своим коллегам.
Уже долгое время после того, как другие облачились в форму, завели себе телохранителей и перебрались в роскошные виллы на берегах Босфора, Талаат продолжал жить в шатком трехэтажном деревянном доме в одном из беднейших районов Константинополя.
Американский посол Генри Моргентау как-то днем неожиданно заехал к нему домой и обнаружил его в плотной пижаме и с феской на голове.
Дом был обставлен дешевой мебелью, стены ярко разрисованы, а пол устлали изношенные коврики.
А жена-турчанка Талаата во время их беседы то и дело украдкой нервозно подсматривала за мужчинами сквозь решетчатое окно.
Большинство из иностранцев, знавших Талаата в то лето, были о нем высокого мнения, некоторым он даже нравился.
Моргентау всегда считал, что может его развеселить, и в эти моменты исчезала дикая озабоченность, темное цыганское лицо расслаблялось, и Талаат был в состоянии вести разговор, проявляя огромную искренность и умственные способности.
Как говорит Обри Нерберт, в нем были «сила, твердость и почти первобытное добросердечие, а свет в его глазах редко можно было встретить у людей. Скорее, иногда у животных на закате солнца».
И все же Талаат при всей остроте его ума и самообладании не допуская эмоций, видимо, ощущал потребность в людях действия вроде Энвера.
Энвер был чудаком, неким своенравным ребенком, шокировавшим и сбивавшим с толку их всех.
Он был наделен какой-то мрачной и сложной привлекательностью, которая скрывает истинный возраст или мысли.
И если Талаат походил на Уоллеса Бири из немых фильмов, то Энвер при всей его развязности – на Рудольфа Валентине.
Он родился в Адано, на берегу Черного моря.
Отец его, турок, был смотрителем моста, а мать-албанка занималась трудом, считавшимся одним из самых низких в этой стране, – готовила мертвецов к погребению.
Может быть, свой крайне привлекательный вид мальчик унаследовал от бабушки-черкешенки, но остальные качества, похоже, были сформированы им самим и находились в замечательном равновесии друг с другом.
Он был исключительно тщеславен, но это был особый вид тщеславия, которое скрывалась под внешней скромностью и стеснительностью, а его безрассудная храбрость в действиях компенсировалась столь холодной, столь спокойной и невозмутимой внешностью, что можно было подумать, что он наполовину спит.
На службе он демонстрировал такое достоинство манер, что, казалось, никакая беда не способна смутить его, а любое решение, какой бы важности оно ни было, требовало от него лишь нескольких мгновений для размышлений.
Даже свое честолюбие он скрывал с той же явной легкостью, с какой он перемещался среди людей, принадлежавших к куда более высококультурному обществу, чем его собственное.
Неудивительно, что при его легкости и очаровании он создал себе столь высокий авторитет у властей предержащих того времени; вот вам юный кавалерист в реальной жизни, скромный молодой герой.
И все это служило самым эффективным прикрытием для врожденной жестокости, мелочности и убогой мегаломании, таившейся в глубине.
Начиная примерно с двадцати пяти лет, когда он окончил колледж военного штаба в Константинополе, карьера Энвера была особенно бурной.
Его специальностью стали свержение правительств физическими методами, внезапные вооруженные налеты на государственные учреждения.
В последних войнах он приобрел репутацию замечательного командира командос.