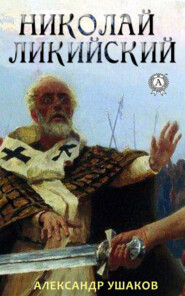По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ататюрк: особое предназначение
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Наверное, все же отрицательно, поскольку к власти снова пришел Энвер, и особых иллюзий на свой счет Кемаль не питал.
Вместе с другими недовольными он заявил, что военный переворот может быть оправдан только спасением Эдирне, и предложил свой собственный план спасения окруженного неприятелем города.
Однако Энвер убедил великого везира провести операцию под Шаркёе, и после ее полного провала Кемаль и Али Фетхи подали в отставку.
Их откровенный демарш до глубины души возмутил главнокомандующего Ахмета Иззет-пашу, и он послал гневную телеграмму великому везиру.
«Если правительство бессильно справиться с этими безответственными господами, – писал он, – презревшими воинскую дисциплину, оно должно обратиться к их друзьям и попросить их заставить подчиняться приказам и распоряжениям своих начальников во имя нашей несчастной родины…»
И тому не осталось ничего другого, как попытаться навести мосты с мятежными офицерами.
Но легче было выбить болгар из-под Эдирне, нежели примирить непримиримое, и, дабы еще более не нагнетать обстановку, Кемаля вывели из подчинения Энвера.
Но Эдирне это не спасло.
Воодушевленные взятием бывшей столицы Османской империи болгары попытались прорвать и Чаталджи.
Турки стояли насмерть, и в этих боях снова отличился Энвер, возглавивший отряды добровольцев из революционно настроенных офицеров и кадет стамбульской Харбие.
К 20 ноября на чаталджинских позициях турецкие войска совершили, казалось бы, невозможное и остановили наступление болгарской армии.
3 декабря было подписано перемирие.
30 мая 1913 года в Лондоне был подписан мирный договор,
Согласно ему почти вся территории Европейской Турции переходила в распоряжение победителей. Константинополь и побережье проливов с небольшим анклавом по линии Энос-Мидия вместо линии Родосто – Мидия, которой добивались болгары, вот все, что оставалось в Европе Османской империи.
Вопросы о границах и о внутреннем устройстве Албании, а также об Эгейских островах передавались на последующее рассмотрение великих держав.
После государственного переворота 23 января 1913 года попытки младотурок создать «иттихадистскую» диктатуру начали наталкиваться на серьезное сопротивление оппозиции.
К тому же убийство Назым-паши вызвало новый политический раскол в армии.
К этому времени оппозиции удалось привлечь к себе низшие слои духовенства.
Центральный комитет оппозиции в Париже, возглавляемый Шериф-пашой, направлял в Турцию своих агентов и выделял значительные средства для «организации в стране широкой агитации против младотурок.
В своей борьбе против младотурок оппозиция использовала арабское автономное движение, особенно усилившееся с января 1913 года в Сирии и Ливане.
Поэтому правительство младотурок распустило «комитеты реформ», возникшие в Сирии и Ливане еще в декабре 1912 году и требовавшие «децентрализации» империи.
Ряд видных руководителей движения – Абдулхамид Вер Али, майор Азиз, Али-беи и другие были арестованы.
11 июня 1913 года итилафистами был убит в своем автомобиле великий везир Махмуд Шевкет-паша.
В своих воспоминаниях Джемаль-паша утверждает, что этим политическим покушением итилафисты преследовали цель не только совершить государственный переворот, но и физически уничтожить сторонников «Иттихад ве теракки».
«Следствие показало, – пишет Джемаль-паша, – что как партия «Хюрриет ве итилаф» в целом, так и ее отдельные члены готовились уничтожить весь руководящий состав партии «Иттихад ве теракки» и, оказав давление на султана, сформировать временное правительство во главе с Шакир-пашой, а после трехсуточной резни младотурок привести к власти Кямиль-пашу или принца Сабахеддина».
Но заговор 11 июня 1913 года ограничился лишь убийством великого везира, посокльку итилафисты оказались не в состоянии свергнуть власть младотурок.
Махмуд Шевкет Паша, вошедший в историю Турции как «Герой Свободы» был похоронен в Стамбуле, в мавзолее, возведенном Халил Беем.
Убийство Махмуда Шевкет-паши дало повод «Иттихад ве теракки» начать политику открытого кровавого террора, которая, по словам Бадави Курана, ничем не отличалась от политики Абдул Хамида.
Все оппозиционные партии в стране были объявлены вне закона и около 300 их видных членов были сосланы в Синопскую крепость.
Среди сосланных оказались и видные руководители Османской социалистической партии Мустафа Субхи и Хюсейн Хильми.
Преследованиям подвергались и лидеры группы «децентрализации», находившейся в оппозиции к «Итти-хад ве теракки»: руководителю этой группы принцу Са-бахеддину пришлось бежать, переодевшись в женское платье.
Назначенный губернатором столицы Джемаль ввел военное положение, и военный трибунал без промедления поставил точку на жизненном пути двенадцати заговорщиков.
«Единение и прогресс» назначил великим везиром египетского принца Мехмета Саита Халим-пашу, а во избежание возможных неожиданностей министром внутренних дел стал сам Талаат.
Так было положено начало диктатуры младотурок, а уставшая от потрясений страна получила необходимую ей передышку.
Наученные горьким опытом постоянной борьбы за власть младотурки позаботились об укреплении своих позиций и значительно пересмотрели как свою экономическую, так и идейную доктрины.
Взяв курс на усиление роли государства в развитии промышленности и сельского хозяйства, они приняли закон «О поощрении промышленности» и создали благоприятные условия для местного предпринимательства за счет отмены пошлин на ввозимые машины, предоставления земельных участков для промышленного строительства и обеспечения кредитов.
Обратили они свои взоры и на развитие капиталистических отношений в деревне, приняв законы о земельном кадастре, о порядке наследования недвижимого имущества и продаже государственных и вакуфных земель.
Конечно, делалось все это крайне медленно и непоследовательно, но, тем не менее, делалось.
Идеологические поиски не могли не отразиться на экономике.
В этой сфере они тоже продолжались, причём достаточно непоследовательные, поиски, начатые в ушедшем веке.
Ведат Эльдем отмечает, что «в последний период империи ни одно из сменявших друг друга правительств не имели осознанную всеобъемлющую экономическую программу.
Их меры в экономике сводились к изыскании юсрочных мер для разрешения возникавших ситуаций».
Но, что важно, «после второй конституции национальный капитал, ранее ничем себя не проявлявший в экономике, начал действовать на местном рынке».
Лишённый ранее возможностей конкурировать с иностранным капиталом с его преференциями, он «начал доверять власти».
Обеспечить успехи в социально-экономической сфере иттихадисты надеялись с помощью политики «национальной экономики», которую они начали в 1908 году и продолжели в 1914–1918 годах.
Но тогда она приняла форму военной экономики, опиравшейся в условиях всемерного распространения концепций тюркизма на турецкую элиту.
И в отличие от прежних периодов, учредителями создаваемых акционерных компаний оказывались представители турецкой знати, бюрократы, политики.
«Самые выдающиеся примеры национальных ширкетов, – отмечал турецкий исследователь Зафер Топрак, – дала стамбульская организация партии «Единение и прогресс».
Так, созданное ею «Хейети махсуса-и тиджарийе» взяло на себя обязательство снабжать Стамбул продуктами питания, а вырученные средства использовать для учреждения новых национальных ширкетов.
В Стамбуле было создано три таких ширкета, в Конье, Измире, Айдыне, Бурсе, Кютахье ещё несколько, некоторые из них занимались банковской деятельностью.
Вместе с другими недовольными он заявил, что военный переворот может быть оправдан только спасением Эдирне, и предложил свой собственный план спасения окруженного неприятелем города.
Однако Энвер убедил великого везира провести операцию под Шаркёе, и после ее полного провала Кемаль и Али Фетхи подали в отставку.
Их откровенный демарш до глубины души возмутил главнокомандующего Ахмета Иззет-пашу, и он послал гневную телеграмму великому везиру.
«Если правительство бессильно справиться с этими безответственными господами, – писал он, – презревшими воинскую дисциплину, оно должно обратиться к их друзьям и попросить их заставить подчиняться приказам и распоряжениям своих начальников во имя нашей несчастной родины…»
И тому не осталось ничего другого, как попытаться навести мосты с мятежными офицерами.
Но легче было выбить болгар из-под Эдирне, нежели примирить непримиримое, и, дабы еще более не нагнетать обстановку, Кемаля вывели из подчинения Энвера.
Но Эдирне это не спасло.
Воодушевленные взятием бывшей столицы Османской империи болгары попытались прорвать и Чаталджи.
Турки стояли насмерть, и в этих боях снова отличился Энвер, возглавивший отряды добровольцев из революционно настроенных офицеров и кадет стамбульской Харбие.
К 20 ноября на чаталджинских позициях турецкие войска совершили, казалось бы, невозможное и остановили наступление болгарской армии.
3 декабря было подписано перемирие.
30 мая 1913 года в Лондоне был подписан мирный договор,
Согласно ему почти вся территории Европейской Турции переходила в распоряжение победителей. Константинополь и побережье проливов с небольшим анклавом по линии Энос-Мидия вместо линии Родосто – Мидия, которой добивались болгары, вот все, что оставалось в Европе Османской империи.
Вопросы о границах и о внутреннем устройстве Албании, а также об Эгейских островах передавались на последующее рассмотрение великих держав.
После государственного переворота 23 января 1913 года попытки младотурок создать «иттихадистскую» диктатуру начали наталкиваться на серьезное сопротивление оппозиции.
К тому же убийство Назым-паши вызвало новый политический раскол в армии.
К этому времени оппозиции удалось привлечь к себе низшие слои духовенства.
Центральный комитет оппозиции в Париже, возглавляемый Шериф-пашой, направлял в Турцию своих агентов и выделял значительные средства для «организации в стране широкой агитации против младотурок.
В своей борьбе против младотурок оппозиция использовала арабское автономное движение, особенно усилившееся с января 1913 года в Сирии и Ливане.
Поэтому правительство младотурок распустило «комитеты реформ», возникшие в Сирии и Ливане еще в декабре 1912 году и требовавшие «децентрализации» империи.
Ряд видных руководителей движения – Абдулхамид Вер Али, майор Азиз, Али-беи и другие были арестованы.
11 июня 1913 года итилафистами был убит в своем автомобиле великий везир Махмуд Шевкет-паша.
В своих воспоминаниях Джемаль-паша утверждает, что этим политическим покушением итилафисты преследовали цель не только совершить государственный переворот, но и физически уничтожить сторонников «Иттихад ве теракки».
«Следствие показало, – пишет Джемаль-паша, – что как партия «Хюрриет ве итилаф» в целом, так и ее отдельные члены готовились уничтожить весь руководящий состав партии «Иттихад ве теракки» и, оказав давление на султана, сформировать временное правительство во главе с Шакир-пашой, а после трехсуточной резни младотурок привести к власти Кямиль-пашу или принца Сабахеддина».
Но заговор 11 июня 1913 года ограничился лишь убийством великого везира, посокльку итилафисты оказались не в состоянии свергнуть власть младотурок.
Махмуд Шевкет Паша, вошедший в историю Турции как «Герой Свободы» был похоронен в Стамбуле, в мавзолее, возведенном Халил Беем.
Убийство Махмуда Шевкет-паши дало повод «Иттихад ве теракки» начать политику открытого кровавого террора, которая, по словам Бадави Курана, ничем не отличалась от политики Абдул Хамида.
Все оппозиционные партии в стране были объявлены вне закона и около 300 их видных членов были сосланы в Синопскую крепость.
Среди сосланных оказались и видные руководители Османской социалистической партии Мустафа Субхи и Хюсейн Хильми.
Преследованиям подвергались и лидеры группы «децентрализации», находившейся в оппозиции к «Итти-хад ве теракки»: руководителю этой группы принцу Са-бахеддину пришлось бежать, переодевшись в женское платье.
Назначенный губернатором столицы Джемаль ввел военное положение, и военный трибунал без промедления поставил точку на жизненном пути двенадцати заговорщиков.
«Единение и прогресс» назначил великим везиром египетского принца Мехмета Саита Халим-пашу, а во избежание возможных неожиданностей министром внутренних дел стал сам Талаат.
Так было положено начало диктатуры младотурок, а уставшая от потрясений страна получила необходимую ей передышку.
Наученные горьким опытом постоянной борьбы за власть младотурки позаботились об укреплении своих позиций и значительно пересмотрели как свою экономическую, так и идейную доктрины.
Взяв курс на усиление роли государства в развитии промышленности и сельского хозяйства, они приняли закон «О поощрении промышленности» и создали благоприятные условия для местного предпринимательства за счет отмены пошлин на ввозимые машины, предоставления земельных участков для промышленного строительства и обеспечения кредитов.
Обратили они свои взоры и на развитие капиталистических отношений в деревне, приняв законы о земельном кадастре, о порядке наследования недвижимого имущества и продаже государственных и вакуфных земель.
Конечно, делалось все это крайне медленно и непоследовательно, но, тем не менее, делалось.
Идеологические поиски не могли не отразиться на экономике.
В этой сфере они тоже продолжались, причём достаточно непоследовательные, поиски, начатые в ушедшем веке.
Ведат Эльдем отмечает, что «в последний период империи ни одно из сменявших друг друга правительств не имели осознанную всеобъемлющую экономическую программу.
Их меры в экономике сводились к изыскании юсрочных мер для разрешения возникавших ситуаций».
Но, что важно, «после второй конституции национальный капитал, ранее ничем себя не проявлявший в экономике, начал действовать на местном рынке».
Лишённый ранее возможностей конкурировать с иностранным капиталом с его преференциями, он «начал доверять власти».
Обеспечить успехи в социально-экономической сфере иттихадисты надеялись с помощью политики «национальной экономики», которую они начали в 1908 году и продолжели в 1914–1918 годах.
Но тогда она приняла форму военной экономики, опиравшейся в условиях всемерного распространения концепций тюркизма на турецкую элиту.
И в отличие от прежних периодов, учредителями создаваемых акционерных компаний оказывались представители турецкой знати, бюрократы, политики.
«Самые выдающиеся примеры национальных ширкетов, – отмечал турецкий исследователь Зафер Топрак, – дала стамбульская организация партии «Единение и прогресс».
Так, созданное ею «Хейети махсуса-и тиджарийе» взяло на себя обязательство снабжать Стамбул продуктами питания, а вырученные средства использовать для учреждения новых национальных ширкетов.
В Стамбуле было создано три таких ширкета, в Конье, Измире, Айдыне, Бурсе, Кютахье ещё несколько, некоторые из них занимались банковской деятельностью.