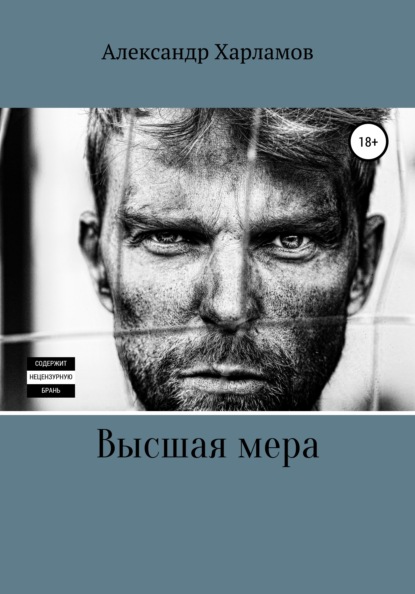По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Высшая мера
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я…
– Ты!– упер он мне в лоб свой мозолистый палец.– ты и такие же как ты, верят в эту идеологию, пока не попадут в такой маленький импровизированный ад, как тот, в котором находимся мы. И лишь после этого к вам приходит осознание того, что именно вы натворили в семнадцатом году.
– Баланду принесли!– закричали из-за двери. Это-то и спасло меня от вопроса, на который у меня не было ответа. Еще всего лишь год назад я б с уверенностью поспорил бы с Качинским. Да что там! Я бы и руки ему бы не подал. Но посмотрев на систему изнутри, я вдруг понял, что теперь, пройдя все круги ада, даже мне все мои аргументы кажутся смешными и нелепыми.
– Налетай, братва!– подручные Кислого первыми гордо продефилировали к двери. Им по статусу было положено первым снимать пробу с блюд. О каком равенстве может идти речь, если даже здесь, в лагере, люди были разделены ступенями строгой иерархической лестницы?
– Что сегодня на ужин?
– Говорят свежего поросенка запекли?
– Щеголев лично постарался!– усталость многих, как рукой сняло. Вялые после долгого трудового дня люди зашевелились, заговорили, даже где-то послышались смешки.
– Опять луковый суп!
– Это там где вместо лука луковая водица?
Я молча схватил свою миску, став безропотно в очередь, захватив между делом и плошку отца Григория, все еще не отошедшего от работы.
– Поспеши, братва, всем может не хватить! Уж больно вкусным супец-то вышел! Наваристый!
Один из зэков бодро разливал по тарелкам жидкую баланду. Посмеяться было с чего. Давно остывший, покрытой какой-то мутной пленкой, суп мало напоминал суп. Среди бледно-желтой водицы плавали одинокие три кусочка лука и картофельные очистки.
– А хлеб?
– Хлеб трудящимся положен!– отозвались в очереди.– А Щеголев сказал, что поработали мы сегодня херово…
Я дождался пока и мне плеснули половник мутной жизни в обе плошки. Недовольный Качинский топтался позади, старательно отводя взгляд. Ему было стыдно за ту вспышку гнева, которая случилась пару минут назад. Я это чувствовал и лезть не стал. Переночует со своими мыслями наедине, сам заговорит.
– Давай шустрей,– подогнали меня из очереди,– желудок от голода сводит.
Стараясь не расплескать и без того малую часть супа, которую выделили нам на двоих с отцом Григорием, я медленно прошел к нарам. Следом с серьезным видом шагал Качинский. Молча подал еду батюшке и сел рядом на краешек нар, выудив ложку из кармана телогрейки. Здесь ее всегда старались носить с собой. Ложка в лагере было неким ценным артефактом, за которым охотилось охочее на поживу ворье. Из ложки можно было заточить нож, ею можно поделиться с другом, а значит тот кто имел больше одной автоматически переходил в разряд местных аристократов. Это была своего рода психология. Никто не хотел унизить себя до такой степени, чтобы лакать из миски, бдто какой-то пес. Их и без того тут за людей не считали, еще не хватало самому опускаться до этого уровня. Потому ложки берегли, старались либо носить с собой, либо прятать в таком месте, в котором шустрое ворье их найти не могло. Лично я носил ее с собой.
– Да…– промолвил я, зачерпывая мутную жижу и выливая ее обратно. Вместо лука желтые, почерневшие от сырости очистки, прибитые морозом, вместо картофеля крахмал и очистки. Запах стоял отвратный.
– Спаси Господи!– широко перекрестился отец Григорий, прихлебывая отвратное варево.– Конечно, не кутья, но есть можно! Благодарите Всевышнего за то, что подарил нам возможность хоть как-то питаться…
Я с сомнением воспринял это утверждение, но всего же заставил себя проглотить эту мерзость, ничего не ощутив кроме неприятного холодка, скатившегося в пищевод тугим комком, который настойчиво не хотел растворяться где-то внутри, норовя поползти обратно, то и дело подкатывая к горлу. Обернулся на Качинского, который довольно шустро наворачивал ложкой, цокая звонко уже о дно тарелке. И это было, пожалуй, самое удивительное. Потомственный дворянин, граф или барон, кто он был, ловко управлялся с почти что помоями, закидывая их за обе щеки, да еще и причмокивая от удовольствия.
– Что смотришь?– заметил он мое удивление.– Странно, да?
Я кивнул.
– Я в четырнадцатом в окопах не такую гадость умудрялся есть! Организму надо питаться, чтобы двигаться. Двигаться надо, чтобы жить! Арифметика проста, чем больше ты поел, какой бы дрянной пища не была, тем больше ты протянешь. А раз тут , более приемлимой пищи не предвидится, то следует пользоваться тем, что есть…
– Эх други мои…– вздохнул отче, оставляя пустую посуду в изголовье нар.– Знал бы я вас раньше…Как моя матушка готовила…Какие рыбные дни у нас были! Котлетки из омуля выходили у моей Марфы Васильевны просто объедение. Вот бы пригласил бы вас на обед, да попотчевал, как следует, в миг забыли бы об этом всем кошмаре…– он обвел барак рукой, будто разом хотел изгнать всех отсюда, переместившись в свой уютный домик при поместной церкви, где в печурке трещат дрова, а счастливая Марфа Васильевна накрывает на стол, суетясь вокруг.
– Ничего, отче,– улыбнулся Качинский, похлопав священника по плечу,– лет через десяток может и покормишь. И Марфа твоя стол нам такой накроет, какой свет не видывал!
Отец Григорий неожиданно всхлипнул и отвернулся, пряча скатившиеся по небритым щекам слезинки.
–Ты чего?– нахмурился я.– Десять лет не такой большой срок. Дни пролетят и не заметишь.
– Не выйдет, ребятушки у нас обеда у Марфы Васильевны моей…Не выйдет…– плечи взрослого мужика вздрагивали в такт прерывистым рыданиям взахлеб.
– Братва, а поп наш ревет!– донеслось с соседних нар.
– Пошел вон!– рявкнул я, придвигаясь к отче, обнимая того за плечи.
– Да брось, Григорий Иваныч…Десять лет…
– Нет больше моей Марфы Васильевны…Прибрал Господь к себе…
Мы с Качинским переглянулись. Он мгновенно спрыгнул сверху, занимая место рядом. Нельзя было дать сломаться человеку! Только услышишь хруст, спасай! Тут надломленным места нет, не сдюжат местных условий.
– Уже не верю я ни в Бога, ни в черта отче,– начал Лев Данилыч,– жизнь отучила, но если там,– он указал на потолок нашего разваленного сарая-барака,– что-то и есть, уверен, что ей лучше, чем нам тут…
– Они приехали ночью…Мы уже спали! – отец Григорий повернулся к нам заплаканным лицом, исчерченным глубокими морщинами. Только сейчас я заметил, что он намного старше выглядит, чем есть на самом деле.– Дверь была закрыта. Они тарабанили в нее, пока я не встал. Пятеро в форме, молодые, подтянутые…Как ты,– он указал на меня. И от чего-то в этот момент мне стало жутко от такого сравнения, что-то было в голосе отца Григория такое, что заставило по спине пробежать ледяному холодку.– Начался обыск. Весь дом перевернули вверх дом, а мою…мою Марфу…Ее впятером, поочереди, у меня на глазах…Как бесы! А я ничего не мог сделать. Только выть, по-волчьи выть…Не знаю сколько длился этот кошмар! Час, два…Я все помню, как в тумане! Когда меня уводили, она все еще лежала нагая в коридоре и только ногами с трудом шевелила и стонала, тихо так…протяжно…
– Ой…ой…ой…– он по-бабьи прикрыл рот ладошкой, чтобы снова не завыть, как в тот страшный вечер. Слезы градом катились по его щекам, и он не мог, не хотел их останавливать. И от этого становилось жутко. Мы с Качинским молчали, чувствуя себя неуютно.
– А потом на следствии, мне сказали, что она умерла в ту ночь, а двух девчонок наших Наташку с Ольгой в приют для детей врагов народа, как щенят отдали…Не приготовит Марфуша нам рыбки больше…
Я готов был провалиться в этот момент сквозь землю. Я понимал, что все люди разные, что на местах часто бывают в нашей системе перегибы, что сволочей везде хватает, но все слова отца Григория жутким упреком хлестанули по моему сердцу, словно кнутом. Да что же это за день-то такой, сначала Качинский, потом отче…
– В раю она, Гриш, в раю мученницей попала…– выдавил из себя Лев Данилыч, сжимая кулаки, словно готов был в этот момент оторвать головы этой солдатне, сотворившей такой кошмар над беззащитной женщиной.
– Нет ее просто…Нет, Лёва! – вытер слезы отец Григорий.– Я сегодня только осознал, что нет её и рая нет, и Его нет!– он махнул рукой на потолок, словно снимая паутину.– Разве ж, если б он был, до допустил такое с моей Марфушей? Разве смог смотреть на такое спокойно…– отче кивнул на мою полупустую миску.– Как бесы издеваются над нами! Дал бы им волю превратить нас в бессловесное стадо? Не дал бы…А раз так, то нет Его боле, и служение мое бессмысленно Ему.
Он пошевелился и через голову снял мокрую рясу. Бросил на пол, оставшись в одном грязном исподнем.
– Нет больше веры на земле русской! Продали мы ее…– одним движением он выпростал из отворота рубашки крестик на веревке и рванул, что есть силы вниз, оставляя на белой от мороза шее красный тонкий рубец.– Нет ее!– и отбросил его куда-то в угол, глубоко разрыдавшись.
Наступила такая оглушительная тишина, что даже дружки Кислого в своем углу притихли. Барак был маленький, и все невольно стали свидетелями нашего разговора. Я обернулся, удивившись задумчивым лицам сокамерников. Каждый в этот момент думал о своем, о несправедливости, о времени больших перемен, в котором мы живем, о системе, которую не сломать. О жизни, которая за этой колючей проволокой, стала не дороже выброшенного отцом Григорием дешевого медного крестика.
– Ну-ка пропусти!
– Мотя, не положено! Щеголь меня убьет!– прервал тишину чей-то разговор доносившийся из-за двери.
– Седой раньше убьет, если долг карточный не вернешь!– коротко обрубили любые возражения за дверью, которая тут же распахнулась и на пороге появился небольшого роста вор в яловых сапогах и расшитой рубахе косоворотке под новенькой телогрейкой. Позади него топтался наш вертухай – лопоухий юнец, восемнадцати лет отроду, прозванного за тонкую талию и визглявый по-женски голосок спицей.
Вор осмотрел барак, ища кого-то глазами. Раз,другой, третий, пока не остановился на мне. Улыбнулся, блеснув в нашем полумраке золотыми фиксами, и уточнил:
– Ты Чекист будешь?
В тот момент я даже был рад тому обстоятельству, что выйду из нашего барака, уж слишком тяжким грузом на меня легло бремя ответа за грехи организации, в которой раньше служил.
– Я!