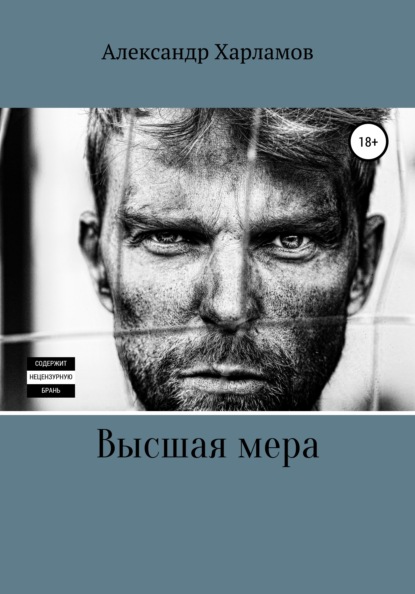По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Высшая мера
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Чего ты хочешь?– спички подрагивали в татуированных пальцах, никогда не знавших работы.
– Просьба есть у «хозяина к тебе»…
– У вас стучать опасно. Седой может и голову оторвать.
– С этапом новым пришелбывший чекист Клименко…
Кислов изменился в лице, услышав знакомую фамилию.
– Вот поэтому к тебе мы и решили обратиться!– похлопал его по плечу Ковригин.– Совместишь приятное с полезным. До следующей недельной поверки он дожить не должен…Тем более, насколько я знаком с вашими законами, он морду вору набил, за что его на пики посадить можно…
– Суд нужен…
– Судите! Но дожить он не должен…
– Из ШИЗО это очень трудно сделать, гражданин начальник,– выдохнул Кислов, обжигая пальцы окурком, который смолил до самого последнего, наслаждаясь добротным дорогим табачком.
– А мы к годовщине октябрьской революции амнистию состряпаем, всех разгоним по баракам, к вечеру уже у себя будешь, да и Косько пора передохнуть, а то сопьется здесь, сторожа вас, ублюдков…– отмахнулся Ковригин.
– А если…
– Что? Если не выйдет?
Ковригин молча встал, пряча папиросы в карман, оправил шинель, подтянув и без того идеально затянутый пояс.
– Как ты говоришь воров наказывают…Опускают? Слышал зубы домино выбивают, чтобы не прикусил, когда…Сам понимаешь…Больно наверное.
Кислов вздохнул, посерев лицом. Его даже передернуло при мысли о наказании от общества. Звание вора сложно заслужить, но еще сложнее ему соответствовать. Вор должен быть кристально чист, за нарушение неписаных законов лучшее наказание смерть! Об остальном даже страшно подумать. За проявленную слабость в Соликамске ему грозило нечто другое, именно то, на что намекал сучий комиссар.
– Есть еще вопросы?– усмехнулся Ковригин, стуча кулаком в дверь.
– Все предельно ясно, гражданин начальник,– обреченно кивнул Кислый,– Клименко не доживет до понедельника.
– Ну вот и славненько!– улыбнулся старший лейтенант.– А это тебе, скоротать время до вечера…
Он потянулся в карман, доставая початую пачку «казбек». Небрежно бросил ее на солому вместе с остатками спичек.
– Мы ценим людей, которые нам помогают!
ГЛАВА 20
В барак я вернулся, когда уже начинало смеркаться. На улице повалил сильный мокрый снег, пушистыми хлопьями укрывающий промерзлую землю. Метель была такая, что ближе двух метров вокруг себя ничего нельзя было разглядеть. Холодная влажная пелена налипала на ресницы, настойчиво лезла в рот, заставляя низко наклонять голову.
Тщедушная телогрейка почти сразу промокла, превратившись в кусок напитанной до краев ваты. По спине побежал холодок, неприятно поднимаясь от колен куда-то между лопаток. Я зябко повел плечами, ускоряя шаг насколько это было возможно. Ноги топли в снегу, отмечая уровень сегодняшнего снегопада глубокими следами, причудливым рисунком остающимся на дороге.
По такой отвратительной погоде радовало только то, что я не попал на валку, а раненная рука, наспех замотанная платком Головко на холоде перестала поднывать, и я ее почти перестал замечать. Лишь когда сжимал и разжимал окоченевшие пальцы, кисть отзывалась тугой натянутой болью где-то в районе локтя.
На крыльце нашего барака было пусто. Именно так…Именно нашего…Я и не заметил, как свыкся с этой мыслью за последние несколько дней, что находился в лагере. И если в первые сутки это дощатое строение показалось мне чужеродным, холодным и неприветливым, то сегодня тусклый свет керосиновой лампадки в стеновых щелях обрадовал меня и манил своим обманчивым теплом и неким подобием уюта. Человек – странное существо. Он привыкает, приспосабливается ко всему. Наверное, поэтому ему удалось дальше всех шагнуть по лестнице эволюции, превратившись в нечто разумное.
Легко взбежав по ступенькам, я распахнул с трудом покосившуюся дверь, влажную изнутри и покрытую крепкой толстой коркой льда снаружи, осыпав целую лавину налипшего снега себе под ноги. В лицо ударил слабый душок тепла, идущего от буржуйки в воровском углу и стойкий запах горелого керосина. Его выделяли на сутки чуть больше капли. Топливо старались экономить, поэтому топили лампу лишь к вечеру, пока не вернулись с работ, потом длинное вытянутое помещение будет освещать лишь огонь из приоткрытой топки буржуйки, но даже этот робкий, еле заметный огонек давал знакомое ощущение одомашненности, какого-то уюта, которого так не хватало в среде суровых гулаговских лагерей.
Игнорируя вопросительные взгляды дежурного, оставленного на протопку в бараке, я запрыгнул на свои нары, слегка поморщившись от прорезавшей запястье боли. Все же острое лезвие финки вора задело, видимо, что-то важное, не позволяющее в полной мере работать рукой. В медпункт обратиться что ли? Мысль о врачебной помощи вернула меня к Валентине…Как она там? Что делает? Работает еще? Или бредет домой? Может стоило дождаться ее возле медпункта и проводить? Нет…Соглядатаев на зоне полно, ей разговоры лишние не нужны, не дай Бог, дойдет до Коноваленко. Воспоминание о бывшем начальнике харьковского управления не вызвало ожидаемой волны ревности, лишь злость и обиду, что именно из-за него, они втроем оказались в ТемЛаге. А из-за него ли? Или из-за собственной глупости? Можно же было бы просто поговорить с ним, объяснить все…Понял ли бы он все тогда? Вряд ли…Если уж не понял сейчас, оказавшись на краю цивилизации, во глубине лесов, засыпанных по самые верхушки елей снегом.
Отогреться не выходило. Дрова экономили тоже. Все знал, что после адского трудового дня, каждый из сидельцев тащит на себе по ветке, чтобы не околеть ночью в сорокоградусный мороз, каждый старается выжить.
Замерзшие налипшие на телогрейку снежные хлопья, попав в относительно теплое помещение начали таять. Вниз закапало, как с сопливого водопровода. Раздеваться не хотелось. Я поджал колени поближе к груди, стараясь сложиться в комочек, греясь теплом собственного тела.
– С рукой что?– скосился дежурный по бараку на мою кисть, замотанную платком в красных пятнах. Это был мужичок из банды Федора, простой работяга, попавший в Темлаг из-за какой-то глупости. Сколько их таких сломала система? Миллион, два? А много ли их вернется к своим семьям, к своим полям?
– Шальная пуля…– усмехнулся я, поворачиваясь спиной к проходу, давая понять, что обсуждать что-то не желаю.
– Как знаешь…– он приоткрыл топку и пошевелил там еле тлеющие угли, не давая им погаснуть, мгновенно вспыхнувшие сотнями светлячков.
– Давай шевелись, быдло!– раздался на крыльце визгливый голос Щеголев. Кто-то ойкнул от боли. Дверь распахнулась и в барак влетел, спотыкаясь от хорошего пинка, один из сидельцев. Бревно, которое он нес в руках полетело куда-то под нары, а сам он рухнул на земляной пол, ударившись лицом о край стола.– Шевелись, я сказал!– следом появился Василь Васильевич, залепленный снегом так, что из-под снежной маски виднелись только злобные узкие сумасшедшие глаза.– Не намерзлись за день, твари? Шевелись, кому говорю! Иначе еще три часа строевой на плацу вам устрою…
Торопливо гремя околевшими кирзачами, один за другим в барак забегали мои сокамерники. До узкой, будто игрушечной печки, сбросили принесенные дрова, потом к своим нарам. У нар застывали, словно восковые фигуры, ожидая финальной вечерней поверки.
Кряхтя, я спрыгнул вниз, чувствуя, как неприятно чвакнуло в промокшем сапоге.
– Клименко!– рявкнул Щеголев, досмотрев меня в полумраке барака.– Доложить о прохождении медосмотра!
– Осужденный Клименко, 1917 года рождения, статья 58 часть б, срок десять лет без права переписки!– охрипшим голосом проговорил я заученную формулу наизусть.– Медосмотр пройден, замечаний нет! Готов приступать к работе.
– А это?– кивнул на разрезанную руку Василь Васильевич, мгновенно заметив неладное.
– Сержант Головко пояснит,– не стал я вдаваться в подробности, ища глазами своих товарищей Льва Данилыча и отца Григория.
– Ну ладно,– поморщился Щеголев,– все на местах?
Предпоследним в барак тяжело дыша забрел красный, как рак, наш батюшка. В руках у него ничего не было. Полы рясы промокли и висели тяжелым кулем у ног. Он то и дело хватался за сердце, открытым ртом ловя воздух. Ни по нем были такие марш-броски, ни для него тяжелый мужицкий труд. Позади него, подталкивая товарища в спину, зашел Качинский, бледный, кажется, еще более похудевший, чем был, но с все тем же озорным блеском в глазах.
– Теперь все…– удовлетворенно кивнул Щеголев, смахивая с плеча налипший снег.– Что я вам могу сказать, твари? Херов работаете, бывшие кулаки и господа…Херово! Так мы с вами и к следующей пятилетке недельную норму не выполним. А значит что?– он прошелся вдоль строя, закинув руки за спину.– А значит надо что-то с этим делать…Вас наш самый гуманный советский суд простил, дал возможность исправиться, а не расстрелял, как последнею падаль…Верно?– остановился Щеголев напротив Качинского, уперев ему свой тяжелый взгляд узких мышиных глаз куда-то в переносицу.– Верно…– так и не дождавшись ответа от бывшего офицера, он двинулся дальше вдоль строя.– А потому, вы не имеете права морального этот самый народ подвести! Вот, что я вам скажу, быдло нечесанное! Как нам быть? Спросите вы меня…человека, которого собственно и поставили для того здесь, чтобы сделать из вас настоящих людей! Все очень просто…Если не получается выполнять норму в рабочий день, то его надо увеличить!
По строю заключенных пронесся вздох разочарования. Мы подспудно думали, что Щеголев готовит какую-то гадость, но то, чего додумался его извращенный садисткий мозг, стало для нас настоящим открытием.
– Завтра…– он взглянул на часы.– Подъем переносится на четыре утра! Да…Вы останетесь без завтрака, но, послушайте…– снова вернулся он к Качинскому.– Хватит уже! Пора забывать свои барские замашки. Время у нас теперь другое! Новое время! А вы все о булочке с кофием мечтаете…Не для того мы революцию делали, чтобы вы тут барствовали! Да?– улыбнулся он Льву Данилычу, похлопав его по плечу.– По шконкам, твари!– неожиданно рявкнул он, мгновенно изменившись в лице, будто судорога пробежала по его пухлым щекам.– И попробуйте мне завтра норму не выполнить! Вообще с вырубки уходить не будете!
Громко топая хромовыми сапогами, он быстро вышел из барака, оставив после себя ощущение чего-то мерзкого, гнилого. Стали разбредаться кто куда. День казался здесь нескончаемым. И хотя темнело рано, а рассветало поздно, как в любой неволе, минуты и часы тянулись удивительно долго. Истопник прямо сырыми дровами стал набивать плохо прогретую печь. Задымило до рези в глазах, запахло копченным дымком. Мы втроем уселись на шконке отца Григория, еле стоявшего на ногах.
– Ну и сука нам досталась,– выругался Качинский, чем меня несказанно удивил. Надо же, воспитанный человек, интеллигент, бывший офицер, а ругается, как последний дворник. Видимо, долгое скитание по лагерям дает о себе знать, даже на таких, казалось бы железных людях, как Лев Данилыч,– на чужом х..ю хочет в рай выехать, сука!– процедил он, дуя на обмороженные пальцы.– Мы ему сегодня не только дневную, годовую норму сделали, а ему все мало…Трудовому народу…Обязаны…Да чхать трудовому народу на нас и нашу работу!– сплюнул Качинский.– Довели страну до ручки!Народу, там на воле сейчас нужно одно, чтобы пришли не за ним, а за соседом! Чтобы норму выполнять не здесь за бесплатно, а там за копейки, которые платят лишь для того, чтобы ты мог выжить.
– Лев Данилыч…– попытался поспорить я с ним.
– Заткнись, Саша!– неожиданно грубо ответил он.– Заткнись за своей кремлевской пропагандой! Иначе я тебя придушу сейчас вот этим окоченевшими от холода пальцами. Посмотри на батюшку! Что с ним? Старика чуть до инфаркта не довели! Об этом мечтали, когда делали революцию? Этого блага хотели для народа? Ладно, я старый контрик, а вы? Ты комсомолец, чекист без страха и упрека…Или Федька, севший за мешок пшеницы, которую украл с колхозного амбара, чтобы дети с голоду не опухли. Что вы здесь делаете в этом аду? А? Такого будущего вы хотели для своих детей? Монархия им мешала? Да при монархии вы бы жили припеваючи где-нибудь в Сибирском поселке, драли местных крестьянок и жрали самогон от пуза. А здесь?
– Лев…– начал было я.
– Что Лев? Мы стали жить в стране, где человеческая жизнь стала разменной монетой, а люди стали быдлом, с мнением которого не стоит и считаться! Разве не так?