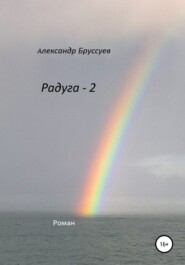По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Тойво – значит надежда. Красный шиш
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ты матери на глаза не попадайся – ей теперь придется с эти жить.
А это Лука. Какой ты умный и рассудительный стал с последней нашей встречи. Когда это было? Тойво не помнил.
Потом было лицо любимой девушки, ее голова покоится на атласной подушечке. Глаза Лотты закрыты, платок скрывает волосы, рядом – цветы.
Это неправда! Ты живая! Встань, нельзя лежать в этом ящике. Встань, ну, пожалуйста!
Запах нашатыря жжет ноздри.
Словно издалека голос, знакомый, но никак неузнаваемый. «Парень! Ты не все еще сделал на этом свете». Да это же Пан! Только он мог так говорить – существо на козлиных ногах. Или Пан, или – Пропал.
«Пан, Пан», – снова раздалось в его ушах. – Не Пропал. Его тут нет. Пока еще нет ему власти».
Отчего же так пахнет аммиаком? Если нечисть поблизости – запах серы, если ангелы – ладана.
«Одна дорога кончилась, другой путь начался. На таких, как ты, стоит этот мир. И если ты не устоишь, рухнет и он. Не время еще!»
Черт побери, но одному-то не устоять! Тойво остался совсем один, родная душа более не будет рядом, а Господь давно отвернулся. Не к кому стремиться.
«Это не значит, что и ты должен от Господа отвратиться. «I`m… the Wrath»[112 - Я есть гнев. Ветхий завет. Еремия. Гл 6, ст 11.] Всем воздастся по Вере их и поступкам».
Слова, слова, как они досаждают! Также, как и проклятый нашатырь. Тойво вспомнил Новый завет, К римлянам, гл 12 стих 19, что «Я и есть мщение». С этого надо начать.
«С этого ты и начни».
Антикайнен замотал головой, и удушающий запах нашатыря отступил. Он огляделся кругом: какая-то женщина убирает от его носа ватку. Рядом с ней стоит отец Лотты. А сам он лежит на очень жестком ложе, словно на дощатом полу. Да так, пожалуй, и есть.
– Сколько дней прошло? – спросил Тойво.
– С похорон – два дня. С того, как ты лежишь здесь – три, – ответил отец. – Думали, что и ты помрешь: недвижим был и без чувств. Сегодня зашевелился – вот тебя и оживили. Что делать думаешь, парень?
Антикайнен хотел бы сам знать ответ на этот вопрос. Да не знал. Зато он знал другое – он знал все, что произошло.
– Спасибо вам, что приютили, – ответил он. – Я оставлю денег, чтобы могилку Лотте справили. Я уйду, вам нужно жить дальше. Простите меня.
Он поднялся на ноги, с трудом удержал равновесие, но выправился. Предстояло еще много, чего сделать. А там, глядишь – и конец пути.
– И ты не станешь разыскивать тех, кто это сотворил? – словно бы в величайшем разочаровании проговорил Лука, который тоже оказался поблизости.
– Нет, я их разыскивать не буду, – ответил Тойво, посмотрел в скорбные глаза отца и добавил. – Я их убью.
– Я с тобой, – живо откликнулся молодой парень.
– Ты с семьей, – возразил Антикайнен.
Лука заколебался, а потом спросил:
– А как мы узнаем, что все кончилось?
– Ну, так вы к Лотте заходите, там и узнаете.
Больше говорить ему не хотелось, он передал отцу, не глядя, все деньги, что были в кармане, кивнул незнакомой женщине, запахнулся в полушубок и вышел на улицу.
Был уже вечер, но Тойво некуда было торопиться. Он бесцельно пошел вдоль мрачных домов, и ноги сами по себе вывели его к роковому пустырю возле крепости. Без всякого сомнения, сюда Лотта сама не пришла. Ее вынудили оказаться здесь, может, угрожая оружием.
Антикайнен мог только предполагать, как разворачивались все события. И любой расклад приводил к двум людям – ему самому и матери Лотты. Он, без сомнения, был причиной, а материнская любовь, странным образом перевернутая в злобность, совсем бездумную, сделалось побуждением.
Оказавшись вовлеченной в «Комитет финских женщин» – сборище завистливых сплетниц и склочниц – мать Лотты прониклась идеей своей значимости, как для семьи, так и для всей независимой Финляндии в целом.
Вообще, любые общества, где собираются по половому признаку – в основном, конечно, женскому – без какой-то деятельной заинтересованности, превращаются в удушающе консервативные и даже воинственные организации. В таких собраниях «куются» феминистки, истинная цель для которых – убить Любовь и просто любовь во всех ее проявлениях. Но они, конечно, свято верят в неистинную цель, о которой вещают на каждом углу: феминистки, ну и какие-нибудь меньшинства – за Любовь. Но, черт побери, они всю эту любовь обращают на себя и свое самовыражение. А это – выявление и борьба против «неравноправия» и ущемлений в «правах», как правило, надуманных. Обычно в таких обществах тусуются одинокие женщины, но запросто могут приблудиться и замужние, чем-то озлобленные. Суки[113 - См также мои книги «Не от мира сего».], одним словом, если говорить мягко.
«Комитет» этот не был исключением. Они не вышивали крестиком, не рисовали гуашью, не читали вслух книги, они лили вокруг себя желчь за бесконечными чашечками кофе. Глупость, конечно, и чепуха, но, следует заметить, крайне вредная глупость и очень опасная чепуха.
Все женщины в комитете знали, кто в их семьях «неблагонадежен», и как с ними следует поступать. Про Лотту, например, говорили, чтобы мать своей материнской волей запретила той встречаться с каким-то загадочным и опасным типом, и все сообща искали другого типа, подходящего для встреч. Воля должна быть непреклонной, а тип – завсегда найдется. Лишь бы он маме Лотты приглянулся – а остальное, как говорится, «стерпится-слюбится».
Когда же одним февральским вечером, вдруг, выяснилось, что дочь собирается уезжать на работу в Хельсинки, что у нее имеются кое-какие деньги на первое время, что она целую ночь не ночевала дома, что муж начал восстанавливать свою дурацкую пекарню, мать, стремглав, побежала с этими новостями в Комитет, только снег из-под сапог в разные стороны.
А там уже другая новость, так сказать, контр-новость. Нашелся молодой человек, которому Лотта не безынтересна. Обходительный, грамотный, доброжелательный, очень симпатичный. Завтра маму этому человеку обязательно представят.
Молодой человек, конечно, пришел, чтобы представиться, но он не казался очень симпатичным. Даже, скорее, наоборот – что-то в его глазах было неприятное и даже пугающее. Тут же все участницы Комитета, перебивая друг друга, поведали ему, что «Лотта собирается уезжать на работу в Хельсинки, что у нее имеются кое-какие деньги на первое время, что она целую ночь не ночевала дома, что отец ее начал восстанавливать свою дурацкую пекарню».
– И откуда, интересно мне знать, у нее деньги? – не очень обходительно поинтересовался он.
– А старик на какие сбережения свой тошнотик подымать будет? – добавил он совсем недоброжелательно.
– Я, конечно, грамотам не обучен, но сдается мне, что если где-то прибыло, то обязательно имеется место, где убыло, а? – хмыкнул он, поднялся и ушел.
– Ну, во всяком случае, этот молодой человек лучше, чем загадочный и опасный кавалер Лотты, – чтобы скрыть некую неловкость, заметила участница, пригласившая этого парня к ним в Комитет.
Все дамы согласились.
Минула пара дней, к Лотте на улице подошел ничем не примечательный человек, подсунул в бок длинное тонкое лезвие и доверительно прошептал почти на ухо:
– Дернешься – зарежу, даже голос подать не успеешь. Идем к крепости. Кое-кто с тобой поговорить хочет. Все расскажешь ему, как на духу – будешь жить.
Они пришли на пустырь, где их поджидали два человека. Один оказался русским, потому что его слова переводил другой, и был он смутно знаком Лотте. Где она могла его видеть?
Главный, тот самый русский, заговорил, переводчик – тоже. Наверно, переводил.
– Где Антикайнен? Куда дел деньги? Если они у тебя, милочка, придется все отдать.
Лотта сунула руку в карман, заставив парня с пикой слегка напрячься, и достала маленький дамский кошелек.
– Здесь десять марок, забирайте все, только отпустите, – сказала она. Почему-то кошелек она держала не в дамской сумочке.
Русский нехорошо ухмыльнулся.
Посчитав эту ухмылку сигналом, бандит с ножом без замаха ударил Лотту кулаком в скулу. Удар был сильным и неожиданным. Девушка упала на грязный снег, подол ее пальто неловко задрался, обнажив красивые ноги в красивых чулках.
Другие электронные книги автора Александр Михайлович Бруссуев
Другие аудиокниги автора Александр Михайлович Бруссуев
Полярник




 0
0