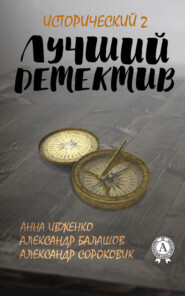По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Камни прошлого
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Первой к гробу подошла Анастасия, единственная из всех гуевских женщин, кто в траурной процессии был в чёрном платке.
– Зарема! – громко зашипел Васька. – Ты ей што – родня? Али кто?
Женщина вздрогнула, но от гроба отошла только после того, как поцеловала покойницу в восковой холодный лоб.
– Вот ушлая писательница столичная! – выругался стоявший за спиной Игоря Ильича его племянник Степан. И, не обращая внимание на осуждающий взгляд батюшки, сплюнув себе под ноги, добавил:
– Никак наследницей первой очереди себя Зарема считает…
Суетливо попрощался с матерью и сам Игорь Ильич. Он поцеловал холодный лоб, на котором лежала церковная бумажная лента с какими-то словами. Думал, что слёзы сами собой покатятся из его сухих глаз, но они никак не выходили наружу. Правда, что-то пружиной с тупыми краями сжалось в его груди, царапая за сердце и душу. Но глаза повлажнели, когда в голос завыла бабушка в жёлтой спортивной кофте, запричитала, неистово крестясь. Отодвинув голосившую бабушку в сторону, подошёл к изголовью гроба Васька, постоял с полминутки молча – и, тут же закурив, отошёл прочь.
Больше в индивидуальном порядке с Верой Ивановной Лаврищевой никто не попрощался.
– Все попрощались? – поинтересовался Сергей, муж сестры Игоря Ильича, копавшего вместе с мужиками могилу. – Тогда заколачиваю гроб.
Подошли мужики с длинными вожжами.
– Давай, трави помаленьку! – подал команду Степан, сверкая глазами на попа, уже настраивавшего велосипед на обратную дорогу.
И гроб на верёвках опустили в глубокую могилу. Игорь Ильич растерянно загрёб ладонью свежевынутой земли с глинистого рыжеватого бугорка и бросил эту могильную глину на гроб матери. Тот глухо отозвался: «Бум!». «Вот так и меня закопают в землю, – пронеслось в голове следователя. – И какая разница, где лежать – на престижном столичном кладбище, где один метр под миллион стоит, или же на старом деревенском погосте с бесплатной, но родной землицей? Пройдёт десять, двадцать лет, ну, самое большое тридцать лет – и никто, никто уже не вспомнит, кто здесь лежит и что это был за человек… Как звали его? Что и кого он любил? Кого ненавидел? О чём мечтал? Чего достиг, а что так и не сбылось? Кому это будет интересно? Внукам? Правнукам нашим? Они о нас-то нынешних ничегошеньки не знают и не помнят, а через десятилетия и подавно не будут копаться в пыльных архивах…Никто никому не интересен. Каждый сам по себе и сам за себя. И «Вечная память», о которой пел отец Николай дрожащим фальцетом, не больше как простая фигура речи…Потому что смерть сильнее памяти. Всё тлен, и память – тоже. Но что ж мы за люди такие, если и с ещё живой памятью даже по родной матери не плачем? Души наши, бессмертные якобы, раньше бренных тел умерли. Какие ж они после этого – бессмертные? От мамы хоть её Верин Камень в памяти односельчан, пока Гуево на древней курской земле будет стоять, останется. А от него, от бывшего следователя Игоря Ильича Лаврищева? Пшик. Воздух, да и тот не шибко свежий…Ни Богу свечка, ни чёрту кочерга. Какие камни прошлого достанутся потомкам моим, продолжателям рода? От чего они отталкиваться будут, строя своё будущее? Хлипок, боюсь, будет фундамент, оставленный им мною и всем нашим эгоистичным, немилосердным и равнодушным веком, где человек человеку – НИКТО. Непригодный для монументального строительства фундамент получается…»
И только сейчас, после этих невесёлых мыслей, по небритым щекам Игоря Ильича покатились две некрупные, но такие солёные слёзы.
Потом могилу быстро закидали землёй, а Василий установил на вершине холмика деревянный крест, покрытый морилкой «для вечности».
Зарема, вытирая слёзы белой тряпицей, подошла и положила букет белых астр. Ни одного венка у провожавших бабу Веру в последний путь не было. Не догадался приобрести его и Игорь Ильич. И теперь мысленно проклинал себя за эту забывчивость.
– Это писательница, – по-своему прочитав взгляд старшего брата, сказал Василий. – Рядом с мамкой купила брошенную хату Никоноровых. Ездит сюда из Москвы книжки свои писать. Всю деревню книжками своими никчёмными задарила. Да кто их читать-то будет? На подтирку – и то не годны – бумажка жестковата. А фамилию свою настоящую не печатает на обложках. Погоняло там значится, псевдоним, по-ихнему – «Анастасия Зарема». Аферистка, наверно, инкогнито. Их нынче развелось – пруд пруди!
– Да не похоже, что аферистка, – возразил Игорь Ильич. – Поверь моей интуиции, чуйка следователя по особо важным делам, Вася, не подводит…
Васька театрально закатил глаза.
– Ух ты, братка! Интуиция у него, чуйкой чует всякую нечесть. А я тебе вот что скажу: аферистка чистой воды. Такие и слетаются, как вороны, на наследство покойниц…
– Да какое у нашей матери наследство-то? Он ведь всегда говорила: человек голым на это свет приходит, голым и уходит…
– Да? Ты дурак, братка, или так, прикидываешься лохом?
– Ты о чём это, Вася?
– Да всё о том же, о чём и ты… О золотом кольце с огромным брюликом. За него батька наш пулю принял, а кольцо с камушком в голубиное яйцо бандюкам не отдал…Значит, о нас, о детях своих думал… Камушек, ежели его с умом продать, до гробовой доски обеспечит. Редкой красы бесценный камушек тот…
Игорь Ильич лишь досадливо махнул рукой на эти слова младшего брата.
– Сказки всё это, легенда, которую придумали отцовы завистники.
Василий прищурил зеленоватые глаза, сказал, растягивая губы в улыбке:
– Сказка, братка, ложь, да в ней намёк… Намёк! Понял, гражданин следователь по особо важным брильянтовым делам?
Василий замолчал, увидев приближающуюся к ним Анастасию Зарему.
– А я вас, Игорь Ильич, потеряла… Вы где остановились? – спросила писательница.
– В отчем доме собираюсь переночевать – и домой.
– Не спешите, Игорь Ильич, я как душеприказчица Веры Ивановны, должна прочитать вам, её детям и близким родственникам, её предсмертную записку. И лучше это сделать до поминок.
– Почему это «до поминок»? – грубо спросил Василий.
– Да потому что упьётесь до песен, не до материнского наказа будет, – сухо ответила Зарема.
За поминальный стол все участвовавшие в погребении Веры Ивановны сели только часам к трём. До этого Зарема попросила детей бабы Веры собраться в комнате, соединявшейся с большой застеклённой верандой, где на стенах висели пучки сухих трав, собранные руками Веры Ивановны. В комнате пахло чебрецом и горькой полынью. Шумная раскрасневшаяся у плиты Домна, «ИП Диана Косенко», как она представлялась односельчанам, родная сестра Игоря Ильича, приехавшая на похороны с мужем Сергеем, тиская Игоря в крепких борцовских объятиях, шептала ему на ухо:
– Я, братик, русский человек с широкой душой в три обхвата! Ежели приглашать людей на помин души нашей незабвенной мамочки, так сдохну, но удивлю народ! Пусть до конца жизни помнят поминки по бабе Вере. Я ведь и в Судже первую в городе кафешку держу. «У Дианы» называется. А? Клёвое название, не правда ли, Игорёк? Десять тыщ на помин души мамки нашей выложила, как одну копеечку! Серёга, муж мой, говоорит мне, что дура. Нужно вскладчину. А что с Васьки возьмёшь? Он, как Ленин, всё по тюрьмам, по тюрьмам… Жена сбежала, сын Стёпка в отца пошёл…А у тебя дети есть, братик?
– Потом, потом, Домна, – тихо проговорил Игорь Ильич. – Давай послушаем Зарему.
– Я не Домна – мартеновская печь, – обиделась сестра, отодвигаясь от брата. – Дианой меня величает народец суджанский. Диана – это, да будет тебе известно, богиня охоты.
– У-у, – неопределённо прогудел Сергей, муж Дианы, – охотница из неё, Игорь Ильич, знатная. Заядлая охотница. Только запах дичи учует… Вот и нынче объявила охоту за бабкиными брильянтами…
Закончить предложение не дал зычный голос Заремы.
– Я попросила вас собраться в этой комнате, – как диктор центрального телевидения эпохи брежневского застоя, начала Анастасия, – чтобы зачитать небольшое недописанное письмо вашей родной матери, почившей больше суток тому назад Веры Ивановны Лаврищевой. Все вы знаете, что я, купив дом рядом с Верой Ивановной, последние три года была её соседкой. И не только соседкой, а и сестрой милосердия, которая ухаживала за больной старушкой, покупала ей лекарства, вызывала из Суджи «скорую», когда этого требовало её состояние здоровья, делала уколы… Короче, ухаживала и любила эту по-настоящему добрую, но горемычную одинокую женщину…
– Почему это «горемычную и одинокую»? – взвилась Домна-Диана. – У неё мы есть… Были, то есть. Трое детей. Старший, например, московский следователь по особо важным делам… Я – ИП, индивидуальный предприниматель. Средний, так сказать, класс. Не бомжи, не приблудные писатели земли русской…
Зарема, поправив на носу очки, сухо попросила приказным тоном:
– А ну, не перебивать! Слушайте и молча краснейте за своё бессердечие…
– Да заткните её рот половой тряпкой! – вскричал Васька, жаждущий пропустить стакан другой в пересохшее горло.
– Тихо! – поднял руку Игорь Ильич. – Говорите, Анастасия.
– Больше мне сказать нечего. Теперь послушайте свою мать. В то утро, когда я нашла остывающий труп Веры Ивановны у неё в доме, рядом с постелю лежала недописанное послание…
– Что за послание такое? – спросил Васька, осклабившись.
– Письмо, – тихо проговорила Анастасия. – Письмо матери к детям своим.
– Читай, писательница, завещание мамино, – застонала Диана. – Не томи душу…
Анастасия подняла глаза на Домну.
– Завещание? – переспросила она. – Пожалуй, что так. Слушайте же, любимые дети Веры Ивановны Лаврищевой.