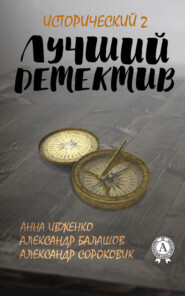По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Камни прошлого
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Моральным уродом, – не задумываясь, ответил Лаврищев. – По отношению к матери.
– Раз так считаете, то вы далеко не безнадежны.
– Есть надежда? Даже когда умирает Вера?
– Надежда, как вы знаете, умирает последней.
– Эта банальность типичное заблуждение, пришедшее из «проклятого прошлого».
– Банальности, как право, есть истины, подтверждённые веками. Вспомните латинскую пословицу: пока дышу, надеюсь. Дышите глубже – и всё у вас будет хорошо.
Лаврищев шумно втянул ноздрями тёплый вечерний воздух, напоенный запахами молодой травы, чистой речки, луговых цветов.
– Воздух, действительно, пить можно… Но я о другой атмосфере.
Игорь Ильич кивнул в сторону деревни.
– Там я задыхаюсь. Хотя, как следователь, привыкший к анализу поступков, понимаю: я ничем не лучше их. Ни-чем. Даже, сели у меня есть надежда, это не индульгенция от моих совершённых грехов.
– А знаете, мы в этом с вами близки, – задумчиво сказала Зарема.
– В чём – «в этом»?
– В мироощущении. Вы – следователь. Я писатель, значит – исследователь. Корень один и тот же. И по-моему, мы оба склонны к самоанализу, который я называю самокопанием. Полезное, но очень опасное качество для человека, когда самокопание превращается в самозакапывание.
– Вы что, спасаетесь в этой глуши от самозакапывания в столице? – спросил Игорь Ильич.
– В какой-то степени.
– И, разумеется, отмаливаете свои прошлые грехи самопожертвованием и милосердием к сирым и убогим…
Анастасия резко встала, поправляя длинную юбку.
– Ну, знаете, товарищ следователь!..
– Что?
– Я ухаживала за вашей матерью не из корыстных побуждений. Ни о каком «брюлике» с голубиное яйцо я и слыхом не слыхивала… Я любила Веру Ивановну всей душой, всем сердцем… Потому что, потому что…
– Что «потому что»?
– Потому что она мне напоминала мою мать, Зарему, которая умерла в Казане, в доме престарелых… А я тогда, окончив Литературный институт, делала карьеру в творческих кругах…
– В каких кругах?
– В кругах ада, если хотите.
Лаврищев понимающе кивнул:
– Вы и правда, Анастасия-добрая душа. Пишется в одно слово, как название какого-нибудь интернетовского фонда милосердия.
Зарема подошла к краю обрыва и тихо сказала:
– А у вас душа обиженного ребёнка… Мне так кажется.
– Правильно кажется, – грустно улыбнулся следователь. – Только обидел свою душу я сам. Некого винить. Теперь вот нужно её спасать…
– Главное, как я поняла, это начать… Не так ли, Игорь?
– Ильич, – добавил Лаврищев.
– Можно я вас просто Игорем буду называть? Вы не так уж стары для мужчины. Самый расцвет… Толстой Софью и на восьмом десятке так ревновал, что решился на побег из Ясной Поляны…
– Который в его возрасте для него закончился трагически.
– Просто рядовое воспаление лёгких. Его можно было заработать и на катке в Сокольниках. Дело случая…
– Вся наша жизнь – дело случая.
– Да вы – философ, мой дорогой следователь. А от философии до поэзии уже полшага…
– В жизни стихов не писал. Только нудные отчёты для вышестоящего начальства.
– Какие ваши годы, Игорь…
– А какие – ваши?
– Какие ни есть – все мои… Не жалею, не зову, не плачу…
– Есенин?
– Он самый… Мужицкий Пушкин, как сам однажды о себе сказал.
– Почему «мужицкий»? Его и женщины очень любят.
– «Мужицкий» – значит, грубый, не изящный, простонародный.
– Просто народный. Так будет вернее.
Со стороны деревни донеслась музыка.
– Во как в Гуево на поминках гуляют, госпожа писательница! Как у вас дела с сатирическим жанром? Сюда бы Гоголя. Он бы уж точно выдал, как мёртвые души душу живую поминают водкой с пивом нефильтрованным…
Анастасия повернулась к Лаврищеву, сверкнула карими глазами.
– А знаете, Игорь, пойдёмте-ка к Вериному Камню…
– Думаете, вдвоём сдюжим?
– Раз так считаете, то вы далеко не безнадежны.
– Есть надежда? Даже когда умирает Вера?
– Надежда, как вы знаете, умирает последней.
– Эта банальность типичное заблуждение, пришедшее из «проклятого прошлого».
– Банальности, как право, есть истины, подтверждённые веками. Вспомните латинскую пословицу: пока дышу, надеюсь. Дышите глубже – и всё у вас будет хорошо.
Лаврищев шумно втянул ноздрями тёплый вечерний воздух, напоенный запахами молодой травы, чистой речки, луговых цветов.
– Воздух, действительно, пить можно… Но я о другой атмосфере.
Игорь Ильич кивнул в сторону деревни.
– Там я задыхаюсь. Хотя, как следователь, привыкший к анализу поступков, понимаю: я ничем не лучше их. Ни-чем. Даже, сели у меня есть надежда, это не индульгенция от моих совершённых грехов.
– А знаете, мы в этом с вами близки, – задумчиво сказала Зарема.
– В чём – «в этом»?
– В мироощущении. Вы – следователь. Я писатель, значит – исследователь. Корень один и тот же. И по-моему, мы оба склонны к самоанализу, который я называю самокопанием. Полезное, но очень опасное качество для человека, когда самокопание превращается в самозакапывание.
– Вы что, спасаетесь в этой глуши от самозакапывания в столице? – спросил Игорь Ильич.
– В какой-то степени.
– И, разумеется, отмаливаете свои прошлые грехи самопожертвованием и милосердием к сирым и убогим…
Анастасия резко встала, поправляя длинную юбку.
– Ну, знаете, товарищ следователь!..
– Что?
– Я ухаживала за вашей матерью не из корыстных побуждений. Ни о каком «брюлике» с голубиное яйцо я и слыхом не слыхивала… Я любила Веру Ивановну всей душой, всем сердцем… Потому что, потому что…
– Что «потому что»?
– Потому что она мне напоминала мою мать, Зарему, которая умерла в Казане, в доме престарелых… А я тогда, окончив Литературный институт, делала карьеру в творческих кругах…
– В каких кругах?
– В кругах ада, если хотите.
Лаврищев понимающе кивнул:
– Вы и правда, Анастасия-добрая душа. Пишется в одно слово, как название какого-нибудь интернетовского фонда милосердия.
Зарема подошла к краю обрыва и тихо сказала:
– А у вас душа обиженного ребёнка… Мне так кажется.
– Правильно кажется, – грустно улыбнулся следователь. – Только обидел свою душу я сам. Некого винить. Теперь вот нужно её спасать…
– Главное, как я поняла, это начать… Не так ли, Игорь?
– Ильич, – добавил Лаврищев.
– Можно я вас просто Игорем буду называть? Вы не так уж стары для мужчины. Самый расцвет… Толстой Софью и на восьмом десятке так ревновал, что решился на побег из Ясной Поляны…
– Который в его возрасте для него закончился трагически.
– Просто рядовое воспаление лёгких. Его можно было заработать и на катке в Сокольниках. Дело случая…
– Вся наша жизнь – дело случая.
– Да вы – философ, мой дорогой следователь. А от философии до поэзии уже полшага…
– В жизни стихов не писал. Только нудные отчёты для вышестоящего начальства.
– Какие ваши годы, Игорь…
– А какие – ваши?
– Какие ни есть – все мои… Не жалею, не зову, не плачу…
– Есенин?
– Он самый… Мужицкий Пушкин, как сам однажды о себе сказал.
– Почему «мужицкий»? Его и женщины очень любят.
– «Мужицкий» – значит, грубый, не изящный, простонародный.
– Просто народный. Так будет вернее.
Со стороны деревни донеслась музыка.
– Во как в Гуево на поминках гуляют, госпожа писательница! Как у вас дела с сатирическим жанром? Сюда бы Гоголя. Он бы уж точно выдал, как мёртвые души душу живую поминают водкой с пивом нефильтрованным…
Анастасия повернулась к Лаврищеву, сверкнула карими глазами.
– А знаете, Игорь, пойдёмте-ка к Вериному Камню…
– Думаете, вдвоём сдюжим?