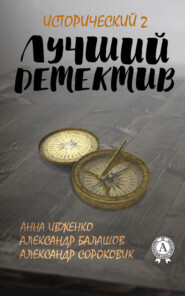По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Камни прошлого
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«У каждой части тела свой идеал счастья».
(Из разговора больных в поликлинике).
Радость из жизни Лаврищева уходила незаметно – по-английски, не прощаясь. И постепенно не только сама радость ушла, но даже её ощущение, ожидание радости. Ну, нет радости, думал он, так что же? Миллионы людей живут и без неё. И думают, что хорошо живут, коль хорошо устраиваются, точнее встраиваются в те чёртовы правила, по которым, – кто богато, кто бедно, кто вообще кое-как, «от ходки к ходке», но опять же безрадостно, – существует и бесследно для этого суетливого мира, где все заняты только своими бедами и бедками, наплевав на своих ближних и дальних, уходят в мир иной.
Кто придумал, думал Игорь Ильич, такие безрадостные, гнусные правила? Почему любое общество делится на две части: тех, кто сидит; и тех, кто сажает. Ведь ни у тех, ни у других от своего, так сказать «призвания», нет никакой радости. И быть не может. Вот он за свою жизнь расследовал не менее двух сотен дел самого разного калибра. И не менее двух сотен «фигурантов этих уголовных дел» посадил в тюрьму. Принесло ли ему это хоть малую толику радости? Той самой радости, которая жила в детстве в совсем юной и наивной душе Игоря? Да нет, разумеется, нет! Тогда, кто убил ту благословенную радость, которая делает жизнь человека светлее, чище, счастливее? Правила? Рутина? Серая пелена однообразных, безрадостно похожих один на другой будней? Но ведь эти «будни» и составляют жизнь человека. Их череда. И чем безрадостнее эта череда, тем, выходит, проще жить. Жить, что это, собственно, такое? Это привычно ходить на работу, получать заработанную (или не заработанную, но всё равно получать) плату, послаще есть, помягче спать, поменьше болеть, не нервничать, не нарушать установленные законом правила и нормы поведения. Но главное – побольше врать и себе и окружающим, что всё у тебя «о, кей» и жизнь, несмотря ни на что, удалась. Ни о какой «радости» в законах, принятых думами всех рангов и калибров, нет и упоминания. Какая ещё радость? Живи по правилам. Таковы правила.
Но ведь это мы сами придумали их, возвели в ранг законов – не нравственных, не законов души, а как бы даже выше их – государственных законодательных актов. Закон, полагал Лаврищев, это зеркало жизни. И нечего на зеркало пенять, коли рожа крива…
Живут же звери без радости… Кто сильнее, тот и схапал кусок пожирнее. Большому куску и наш рот радуется. Но это, думал Игорь Ильич, не та радость. Это праздник живота. А что для души? Что его жизнь без радости? Работаешь без радости, делаешь детей без радости, живёшь без радости и умираешь, так и не поняв: а зачем приходил-то на свет Божий? С какой радости и для какой радости?
Вот он, следователь Лаврищев, жил вроде бы по правилам. По крайней мере, старался так жить, не переступая за черту законности, черту некоей «нравственной оседлости», что ли… Распутывал уголовные узлы и сажал. Да, сажал. Но сажал тех, кто – опять же по правилам! – кто (по ним же) и должен сидеть в тюрьме. Вроде бы правильно поступал. Можно сказать, по совести. Но от этой «правильности» радостнее на душе Лаврищева как-то не становилось…
Так кто придумал эти «неправильные правила»? Никак сам сатана, падший ангел, который когда-то сам познал эти радости, а затем лукаво подменил их искусной подделкой. Самый большой и жестокий обман человечества! Да что там человечества – то обман самой Жизни, когда подделку, суррогат, пиратскую копию, муть зелёную возносят до небес, и ненастоящие профессора с купленными высокими званиями и должностями так сладко и на все голоса поют подделкам оды и панегирики. Всё подделывают в этом мире, слетевшем с катушек! Всё подделывают здесь, и пытаются подделать то, что подделать всё-таки, слава Богу, нельзя: душу свою. Но пытаются подделать. Припудрить её, подкормить стволовыми клетками, омолодить, но не только не очистить от грехов, которые всё копятся, копятся, переполняя ЕГО чашу терпения…Верить, терпеть, прощать и любить… Как это трудно, однако, несмотря на кажущуюся простоту алгоритма радостной жизни. А ведь когда-нибудь, полсе физической смерти, спросят его и о вере, и о терпении, и об умении прощать и любить.
Но это уже никого не страшит. У нынешнего поколения, воспитанного на гаджитах и «стрелялках», исчез, испарился страх перед Небом, как высыхают лужи под июльским зноем. Исчез не только страх перед Страшным Судом, но и перед судом своей совести. Этот «внутренний стыд» исчез как сон, как утренний туман. Исчез, испарился вместе со стыдом внешним. Нет сегодня ни Страха, ни Стыда. Слава подделкам!
И слава тем, кто делает конфетки из говна! А что? Заверни такую конфетку в яркую бумажку, назови похитрее, позаковыристее, дай рекламку в СМИ, не скупись на эпитеты и «честные рейтинги покупателей» по ТВ-ящику – и дело пойдёт… Конфетки из дерьма признают лучшими конфетами в мире. Человечество живёт не по законам правды, а по законам правдоподобия. Но ведь правдоподобие – это не правда. А всё, что не правда – это ложь. Выходит, думал Игорь Ильич, мы все живём по ложным правилам, по удобным (для кого-то) законам? Ложь правит миром? Она рано или поздно, если ты принимаешь правила игры, становится твоим богом? Богом Великой Лжи, которая ничего не имеет общего с Правдой Природы. Ко лжи привыкают быстро и без возражений. Привычка становится твоей первой, а не второй натурой. И ты, брезгливо попробовав хоть раз разрекламированную продажными врачами (слово «врач» в русском языке от слова «врать») конфетку из дерьма, потом купишь кулёк таких конфет, полкило, килограмм. Ты сам будешь их хвалить друзьям и знакомым. И в конце концов, так привыкнешь к ним, что даже, может быть, полюбишь за низкую калорийность и специфический вкус. Как привыкли миллионы, скажем, к сливочному маслу XXI века, в котором нет ни молока, ни сливок. Сегодня никого не смущает, что делают это масло (конфетку из дерьма) не из коровьего молока, а из масла пальмового. Все об этом знают. Но все принимают правила, которые кому-то выгодны. И все послушно живут по чужим правила, принимая их как бы за свои.
Многое во второй половине жизни казалось Лаврищеву каким-то ненастоящим, искусственно слепленным. Даже сама жизнь – не настоящей жизнью, а её суррогатом. Имитацией. Искусно сделанной кем-то машиной под названием «симулятор». Он обратился к книгам, ища в них достойный ответ на свои вопросы. У современных авторов, кроме лихо закрученных сюжетов, немыслимых погонь, – «экшена», как говорил его пасынок Юлиан, – и штабелей убитых, которых никому не жалко, прежде всего самому автору, он ответов не нашёл. Где жизнь, братцы? Реальная, настоящая жизнь, которой должен жить с радостью каждый человек, пришедший в этот мир? Этот вопрос он задавал авторам всех времён и народов. И не получал ответа. Книжная жизнь – а он в Москве собрал прекрасную домашнюю библиотеку – тоже была всё той же «виртуальной реальностью» – без цвета и запаха, порой истеричной, со слезами и воплями, но главное, без радости. Без любви к тому, кто этой любви, по твоему разумению, совсем не достоин – бомж, воришка, проститутка, лицемер… Их-то КАК полюбить? Без Любви – нет жизни. Есть иллюзия её, симулятор, но не сама жизнь, которую не заменят ни игры в спасение мира в гаджитах, ни умные мысли, почерпнутые из книг. Если знания умножают скорбь, то какая же от них может быть радость?
Знания сами по себе вещь безрадостная. «Меньше знаешь, крепче спишь!», – любил повторять эту полицейскую банальность его бывший начальник. Спал тот подполковник всегда очень крепко. Даже на работе, в специальной комнатке отдыха, предусмотренной для таких целей за искусно замаскированной дверью в его кабинете. Но тот блаженный сон вряд ли приносил начальнику радость, а уж про окружающих его подчинённых – и нечего говорить. После такого безрадостного сна начальник бывал злее цепной собаки. Но ведь жил же человек без радости! И неплохо, по нашим правильным понятиям (понятиям по правилам, значит) жил. Был на хорошем счету у своего непосредственного начальства, по вертикали власти.
Так что же значит: жить без радости? Жить без радости, понял следователь Лаврищев, это жизнь без любви. А без любви какая жизнь? Мука да и только. Как в дантовом аду. В аду нет места даже этому радостному слову – «Любовь» «Тернистый путь пройдя наполовину, я оказался в сумрачном лесу». Эта фраза великого итальянца («Божественную комедию» Лаврищеву подарили в прокуратуре на его 50-летие) вдруг вобрала в себя все эти грустные мысли, все «вечные вопросы» следователя, которые с того самого юбилейного банкета в дорогом ресторане терзали его душу. «…Я оказался в сумрачном лесу». Значит, и тогда, во времена средневекового Возрождения, всё то, о чём думал Игорь Ильич занимало умы тех людей. И они, триста, пятьсот лет тому назад, искали, но не находили радости в жизни. Какая же радость, оказаться в жизни, как в сумрачном лесу?
Одна только настоящая радость и осталась у Лаврищева. Рад был Лаврищев, что в этом суетном и недобром мире он ещё кому-то нужен. Да нет, не просто «кому-то», а, конечно же, дочери своей любимой – Ирине Игоревне. Потом в его жизни появился внук Максим. И Игорь Ильич стал его считать своей главной и единственной теперь радостью…А о чём ещё мечтать в той половине жизни, когда чувствуешь, что «оказался в сумрачном лесу»? Есть семья: жена, приёмный сын, родная дочь, внук… Пенсия слабовата? Так не в деньгах счастье. Многие бы его коллеги, вышедшие вместе с Лаврищевым на пенсию, могли бы позавидовать Игорю Ильичу. А что такое счастье вообще, думал экс-следователь по особо важным делам. Счастье – это когда тебе завидуют, а нагадить уже не могут. А что к своей «мраморной Галатее, у него давным-давно нет никакого живого чувства (а были ли они вообще?), то уже поздно локоток кусать. Да и раньше его укусить было не просто. Хотя вопрос о разводе с Марией Сигизмундовной он время от времени всё-таки ставил… Перед самим собой.
Но когда Ирина полюбила молодого человека, аспиранта одного из кардиологических центров, вышла замуж, родила Лаврищевым внука Максима – «разводной вопрос» отпал как бы сам собой. Появились совсем другие проблемы – как можно дольше продержаться на своём месте в столичной городской прокуратуре (новый прокурор особенно не деликатничал с работниками, достигшими пенсионного возраста), потом помогал молодой семье Ирины обустроиться в двухкомнатной квартире, которую Лаврищевы купили для семейного счастья дочери. Хлопоты, суета сует, проблемы, маленькие радости, ссоры и примирения, обиды и упрёки, приобретения и потери, беды и бедки, дети и детки – всё, как писал Толстой о несчастной семье Облонских, смешалось в доме Лаврищевых. Терпения не хватало, прощать не научился, любить так, чтобы раствориться в другом человеке, он не умел…Всё это было как бы из чьей-то другой, не его жизни. Постепенно о разводе Лаврищев перестал мечтать и ни о каком разрыве, выйдя на пенсию по «собственному желанию начальства», уже даже не помышлял. Жил с властной и педантичной женой как бы по инерции: притерпелся. По инерции играя и роль порядочного мужа, любящего отца, а теперь уже и деда.
ЧЕЛОВЕК С МЯГКИМИ НОГТЯМИ НИКОГДА НЕ СМОЖЕТ НАЙТИ КРАЙ У СКОТЧА
«Если ты любишь человека таким, какой он есть, то ты любишь его.
Если ты пытаешься его кардинально менять, то ты любишь себя».
(Август Аврелий).
…В тот день в руках у жены Игоря Ильича был скромный букетик июньских цветов. Но импровизированный «презент» мужа её скорее раздражал, чем радовал. Цветы после утреннего чая с дачной клумбы своим перочинным ножом – без её на то дозволения! – срезал «Ильич», как она называла мужа в дни обострения её хронической депрессии. (Так она прозрачно намекала на его уже такое далёкое прошлое, когда для того, чтобы человека назначили старшим следователем, нужно было сначала обзавестись партбилетом с профилем «вождя всемирного пролетариата», могильщика российской интеллигенции, которую вдохновитель Октябрьского переворота, выходец из интеллигентной семьи губернского Симбирска, почему-то называл в своих статьях и речах «вшивой»).
Этот оскорбительный эпитет, полагала Мария Семионова, должно быть, относился только к новой, «пролетарской интеллигенции», к той, что называется, из грязи в князи. Ну, как муж её, Игорь Ильич, тоже, кстати, Ильич. Во всех анкетах в советское время радостно писал «из крестьян». Нет, думала Мария Сигизмундовна, прав, прав был «тот Ильич», вшивая она, нынешняя наша интеллигенция, генетически вшивая. Новодел, одним словом. Вот у неё корни – так корни!.. Если «тот Ильич» вшивость приписывал «новоделу», тем, кто из грязи в князи, так это архигениальная, архиправильная мысль человека, чьи останки до сих пор зачем-то выставлены напоказ в мраморном мавзолее на Красной площади.
Другие же «кон- и архигениальные» мысли давно «почившего в бозе» вождя мирового пролетариата были мертвы и чужды для Марии, закончившей в уже далёкие от нас семидесятые годы юрфак и имевшей неизменную оценку «отл» в зачётке по истории партии и научному коммунизму.
Всю свою сознательную (то бишь – допенсионную) жизнь прослужившую в Московском городском суде, сначала секретарём суда, потом народным судьёй, а в пореформенные годы – федеральным судьёй, Мария Сигизмундовна судила легко. Но на процессах – только с колокольни, на которую её «народным судьёй» (то сеть судьёй над народом) посадил некто, имярек, которого принято безлико называть «государством». С «лёгкостью необычайной» (после соответствующих консультаций с вышестоящими госорганами) она выносила свои обвинительные приговоры. За всю свою карьеру в органах советской, а потом Российской юстиции Мария Сигизмундовна не вынесла ни о д н о г о (!) оправдательного приговора. Свою позицию называла «принципиальностью и чётким выполнением буквы закона». Ей нравилась поговорка её отца, которую он всё чаще употреблял, когда страна объявила о своём историческом переходе на рыночные рельсы: человек с мягкими ногтями никогда не сможет найти край у скотча. Мария Сигизмундовна своими острыми твёрдыми коготками легко находила нужный ей край у любой клейкой ленты. И этим очень этим гордилась – мол, не зря свой белый хлебушек родного государства со сливочным маслом, а порой и с икоркой поверх маслица, ела.
Правда, «родным» государство Мария Сигизмундовна называла только с трибуны или в громких обличительных процессах над госпреступниками. Государство, где столько лет правящая партия провозглашала диктатуру пролетариата, было для Марии, урождённой Семионовой-Эссен, чужим и даже враждебным. Хотя в этом она не призналась бы даже на Страшном суде. Правда, с одной оговоркой: если бы этот «страшный суд» вершил «самый гуманный суд в мире».
В компартию Мария вступила «чисто из карьерных соображений», хотя до 1991 года не признавалась в этом даже самой себе. Когда стало модным сжигать свои партбилеты с профилем Ильича на красной обложке, она тихо-мирно положила свой партийный билет в нижний ящик стола, под старые счета и бумаги – так, на всякий пожарный случай…А вдруг новое ГКЧП или другое какое ЧП случится? У нас ведь партбилет – как индульгенция у католиков. Покаялся – и прощён, ежели ты с индульгенцией в кармане.
По большому счёту Мария Лаврищева-Эссен была великим гуманистом, как, впрочем, и сам советский суд – как известно из «Кавказской пленницы», «самый гуманный суд в мире». По судейской привычке, как и жесткие, а часто и жестокие приговоры, вынесенные ею осуждённым, она привычно оправдывала гуманными целями – «перевоспитанием оступившихся» или «борьбой за нового человека». Хотя прекрасно понимала, никакого «нового человека» создать даже в очень замкнутом пространстве, окружённом колючей проволокой, невозможно. Этому противиться свободолюбивая сущность homo sapiens – человека как бы разумного, но отнюдь не всегда законопослушного и гуманного. Судить людей без соответствующей юридической подготовки можно. Нельзя без «идеологической платформы», без согласования приговоров с вертикалью власти. Технически это согласование можно провести по телефону, секретной электронной почте или внутренней (телепатической) связи. А как приговаривать к лишению свободы, к исправлению без того, чтобы, широко расставив ноги, крепко не стоять на шаткой платформе, на которую тебя подсадил некто, имярек под псевдонимом «государство»? В любой великой стране даже ребёнку известно, что «всё для человека и всё во имя человека»? Всё ему в стране советов было во благо. Даже мордовские лагеря.
Мария Сигизмундовна мечтала «добиться степеней известных» – стать профессором права, преподавать в университете и писать толстые и малопонятные обывателю книги по правовым вопросам и проблемам. А их в социалистическом государстве от десятилетия к десятилетию: от Ленина к Сталину, от Сталина к Хрущёву, Брежневу (далее до конечной станции со всеми остановками) накапливалось всё больше и больше. Молодая амбициозная работница древней старушки-Фемиды, которая в обществе «развитого социализма» судила людей с очень плотно завязанными государством глазами, мечтала о солидных зарплатах, премиях (пусть даже не Государственных, а от Минюста или горкома партии). Ей грезились достойные вознаграждения за изданные монографии, которые она якобы напишет… К сожалению, но, скорее всего, к счастью, ничего такого- этакого не случилось.
Судьба после оформления брака с Лаврищевым смягчилась к Семионовой-Эссен. Мария Сигизмундовна взяла русскую фамилию мужа, присоединив её только к половинке аритсократической, потому как тёмные чиновники всегда принимали фамилию «Эссен» за еврейскую, что в советской юстиции, мягко говоря, не приветствовалось. Это дало свой «идеологический эффект»: судьба помаленьку стала благоволить Лаврищевой-Семионовой и всеми правдами и неправдами дотащила Марию Сигизмундовну на аркане с нужными блатными узелочками к концу прекрасной эпохи до должности народного судьи. Правда, не было ни госпремий, ни монографий. Зато были благодарные и порой очень щедрые клиенты, которые не стояли за ценой, когда речь шла том, что по существу цены не имеет – о свободе и сроках несвободы.
Деньги Мария Сигизмундовна, как верная дочь славного рода Семионовых-Эссенов, лишённых в обозримом историческом прошлом дворянства и всех гражданских чинов от асессора до тайного советника диктатурой пролетариата, любила больше, чем коммунистические идеалы. И если они попадали в её острые коготки, то выцарапать их обратно не было уже никакой возможности. Её мать, Екатерина Васильевна Эссен, очень удивлялась, как это её дочь с хваткой львицы-добытчицы, смогла связать свою жизнь с человеком с мягкими ногтями, каким всегда считали следователя Лаврищева.
– Это же всем известно, Мария, – говорила мать, потомственная дворянка, белая кость, как раньше говорили. – Человек с мягкими ногтями, Мария, никогда не найдёт край у скотча.
«ВСЁ БЛИЖЕ, БЛИЖЕ ЧАС РАСПЛАТЫ, КОГДА НЕЛЬЗЯ И НЕКОМУ ВАМ БУДЕТ ПОЗВОНИТЬ…»
«Пишу ей СМС: «Ты у меня самая лучшая!».
Она отвечает: «Бухаешь?»
(Из разговора приятелей в электричке).
…Старенький аппарат в московской квартире Лаврищевых разрывался от настырного звонка так, что телефон охрип, в конце концов. Кому-то на другом конце провода очень нужно было сказать следователю очень важное, не терпящее отлагательств. Казалось, что старый телефон знал или, по крайней мере, догадывался о важности звонка. Он звонил и звонил, не переставая, лишь иногда делая коротенькие передышки.
Телефон рад был помочь неизвестному ему абоненту связаться с его хозяином и спасителем – вчера ещё следователем по особо важным делам, а нынче совсем не важным, рядовым пенсионером. Своим хрипловатым голосом он будто напоминал всем нам: «Звоните, звоните, друзья, днём и ночью! Звоните всегда. Тут уж нее до деликатности: уж близок час, когда нельзя и некому вам будет позвонить…»
Его звонок давно утратил свою звонкость, чистоту и свежесть телефонной юности. Он старел вместе со своим хозяином, старшим следователем прокуратуры Лаврищевым.
Телефонный аппарат, «отпад и музейный экспонат», как называл его внук, пока Лаврищевы плелись к платформе, ждали электричку, а потом ехали в старом душном вагоне, хрипловато трещал и трещал в безлюдном пространстве квартиры в Бирюлёво.
Его звонок будто кому-то настойчиво и на повышенных тонах выговаривал: «Возьмите трубку, возьмите трубку! Не отключайте старых телефонов. Всё ближе, ближе час расплаты, когда нельзя и некому вам будет позвонить».
Мария Сигизмундовна не просто не любила этого старичка. Она ненавидела старый телефон, который не раз и не два падал с полки на пол, а Лаврищев неумело заклеивал универсальным клеем его треснувшие бока. Прошлым летом она, впав после «евроремонта» в очередную свою депрессию (этот «евро» стоил Лаврищевым двух поездок на дорогой отечественный курорт с подсмотренным у турков сервисом «всё включено»), хотела выбросить на помойку этот стационарный телефон, свидетеля похорон Брежнева и всех последующих генсеков из кремлёвского дома престарелых… Но тут всегда послушный Игорь Ильич взбунтовался и буквально встал на дыбы. Оказалось, что тот телефон бы ему дорог как память.
– Память всё-таки, Маш, – остыв, оправдывался Игорь Ильич. – Ты же помнишь, телефон установили через полгода после новоселья…Я так ждал эту квартиру, чтобы жить отдельно, как и положено крепкой семье, отдельно от твоих родовитых и интеллигентных родителей… Долгожданная квартира, а тут ещё и телефон!.. Помнишь, Маш, а?
– Помню! – холодно отрубила супруга. – Помню, сколько слёз я пролила, переезжая в эту халупу тогда в самом захолустном районе Москвы. Ирочка ещё маленькой была, ничего не понимала. А бедный и эмоционально возбудимый Юлиан плакал, когда мы съезжали из высотки на Набережной. И я его понимаю.
– От счастья, я полагаю, плакал?…
– Тогда, после очередной ссоры с моими родителями, твоё, Ильич, счастье, насколько мне помнится, у самого висело на волоске.
Лаврищев рассмеялся:
– Сколько раз говорить вам, ваша честь: счастье лысых не может висеть на волоске. Пора бы запомнить, душа моя.
ЧЕМ БЛИЖЕ БАБУШКА, ТЕМ ЖИРНЕЕ ВНУК
«Бабуля, купи мне автобус,
Пусть микро, не надо больших,
Мы съездим когда-нибудь в отпуск
В приморский простой Геленжик»