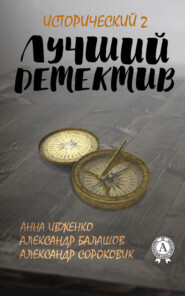По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Камни прошлого
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«От войны нельзя ждать никаких благ».
(Вергилий).
Илья Лаврищев был призван в армию после освобождения Гуево от немцев. Уходил он на войну не из дома – из шалаша, который семнадцатилетний Илюха соорудил на пепелище. Части 65-й Армии генерала Батова так припёрли оккупантов, что своё уязвлённое самолюбие «непобедимых рыцарей», немцы, отступая, вымещали на местном населении.
Взвод под командованием обер-лейтенанта Фридриха Ланге ездил на мотоциклах по деревни, плескал на стены случайно выбранных домов гуевцев бензин из канистр, потом поджигали факел и бросали горящий факел к стене хаты или на крышу. И уже через полчаса пылающий костёр превращал хату в печальное пепелище.
В то утро, перед самой карательной акции немцев, матушка отправила Илью в Мирополье, к дядьке Семёну.
– Попроси, сынок, у нашего родственника мучицы или хоть ржи немолотой, – подавая Илье пустой мешочек, сказала мать. – Когда в последний раз ты с Зинкой и Зойкой хлеб-то ел?
– Лепёшки пополам с лебедой? – уточнил сын. – Неделю назад… Вчера я рыжиков из леса принёс… Свари на обед.
Мать горестно вздохнула:
– Две жмени грибов тех… Зойка в голодный обморок упала…Дед с печи не встаёт – опух с голодухи… А бабушка Настя животом третий день мается, боюсь помрёт нынче… Чем кормить вас – ума не приложу!..
Мать заголосила, закрыв жилистой рукой рот, чтобы девки, семилетняя Зина и пятилетняя Зоя, не услышали её рыданий.
– Будет, ма! Слезами горю не поможешь. А у дядьки Семёна и мучица водится? – спросил Илья.
– Он же паёк немецкий, как сельский староста, получал… Наскребёт чего-нибудь на нашу бедность. Он мужик не жадный… Земляков не гнобил, слава Богу…
Когда Илья вернулся в Гуево с мешочком ржаной муки, который спрятал на груди, под рубахой, их дом уже догорал… В огне эсесовцы живьём сожгли и матушку, и сестёр-малолеток и восьмидесятилетнего деда Кузьму. Никого живым из горящего дома немцы не выпустили.
Илья было бросился разгребать горячие угли и дымящиеся головешки – да какое там… Собрал только обгоревшие косточки родных ему людей.
Обгоревшие трупы матери, бабушки, деда Кузьмы и двух сестричек Илюха похоронил на старом гуевском погосте в одном гробу, который сам и сколотил из обгоревших, но ещё подходящих для этого скорбного ящика досок. Понимал парень, державший слезу на привязи: по-человечески надобно похоронить.
Помогала, как и чем могла, Вера Ковалёва, к которой в последние годы был неравнодушен Илья. Девушка отвечала ему взаимностью. «Значит, любовь промеж нас образовалась, – думая Ковалёвой Верке решил для себя Илья. – После войны распишемся в сельсовете, детей нарожаем, дом построим – и заживём не хуже других».
Но тогда не мысли о любви лезли в голову убитого горем Илюхи.
– Ты, Илюша, поплачь, поплачь, – сказала Вера. – По себе знаю – легче будет… А то с горя и сам рядом с ними ляжешь…
– Отольются им наши слёзы, – скрипел зубами Илья. – Верю, что батя жив и их там, на фронте, лупцует!.. И я скоро на войну уйду. За всё гадам отомщу!.. Ничего и никого из них не пропущу, не забуду во век и не спущу…
Верка и сердобольные соседки, у кого горя было не меньше, слезами помянули зверски убиенных Лаврищевых – больше, увы, было нечем. А мешочек с ржаной мукой от дядьки Семёна Илья Верке отдал – многодетная их семья голодала пуще других.
– Куда ты теперь? – вытирая ладонь слёзы, спросила Вера.
– Как-нибудь перебьюсь, – буркнул Илья. – Ноги, руки есть – не пропаду, небось…
В тот же скорбный день хотел он податься к своему дальнему родственнику, к двоюродному дядьке Семёну. Чтобы до призыва в действующие части пожить у него. Илья был уверен, что этот староста Семен – вовсе и не староста. Хмур был и угрюм с виду, а зла людям не чинил. Парень думал, что родственник его в оккупацию был с партизанами курскими связан, либо отступавшей в сорок первом Красной армией оставлен в тылу врага… Для сбора разведданных. Не гнобил, по словам матери, своих земляков дядька Семен, а кому-то из баб даже шибко подмогнул избежать неметчины, когда туда стали угонять здоровых деревенских женщин, вдов и солдаток.
Хотел податься к дядьке Семену, да расхотел… Лёньчик, скользкий деревенский мужичонка по прозвищу Блоха, нашедший себе с приходом наших тёплое местечко в сельсовете, где он составлял списки военнообязанных парубков, упредил вовремя:
– Не к кому теперича итить тебе, Илюха. Вчерась повесили старосту. Как фашистского наймита, немецкого прихвостня.
– Как повесили? – опешил Илья.
– За шею, вестимо, – засмеялся Лёньчик. – Семен всё про каких-то московских монашек и советского разведчика, шо немцам не сдал, сказки трибунальской тройке рассказывал. Не поверили. Свидетелей-то – тю-тю, не нашлось.
– А что ж ты не подтвердил, что Семён никому из селян худа не делал. Ездил только по околотку на своём велике да горилкой горящую душу тушил… Вот и весь вред его.
– А какой я свидетель? Я в своей хате тихохонько сидел, гадал, чем детишек та жёнку кормить? Корову-то, кормилицу нашу, эти суки немецкие сожрали, неделю взвод отбивные жарил… Шо б им подавиться! А свидетель – дело опасное. Сперва свидетель, а потом и к стенке поставят.
Какое-то время Илья перебивался с воды на хлеб у соседей. Но чужой хлеб всегда горек. Так лучше уж к армейской части прибиться, подумал Илья. У солдатской каши не загинешь. У бойцов, рассуждал парень, и новая форма с погонами и звездами у командиров, справная одежда, и обувка – ботинки или даже сапоги, а не чуньки дырявые, как у него. А какими ароматами дымит их кухня полевая!.. Живот к позвоночнику прилипает от тех запахов и слюни текут. А котёл кухонный ёмкий такой, видать, способен запросто зараз прокормить целую роту таких, как он, голодных ртов.
Нашёл в сундуке Илья свою метрику и приписал себе недостающий год. В клубе, где формировали гуевских и миропольских салаг для отправки в регулярные части, никто не усомнился в призывном возрасте рослого, не по годам зрелого Илюхи Лаврищева. И не заметили (или сделали вид, что не заметили) исправленную цифру в метрике Ильи Лаврищева.
Воевал он в пехоте – «царице полей»… Что б тому выдумщику, кто её так прозвал, икнулось, думал парень на Курской дуге, куда в начале августа попал рядовой Лаврищев. В освобождённый Орёл уже входил не безусый салажонок, а обстрелянный бывалый солдат. Фронтовик, словом.
Всякое с Ильёй Лаврищевым на войне было. Но на судьбу не роптал. Притерпелся и к военным будням царицы полей… Хотя мыслимое ли это дело, чтобы царица по грязи на пузе ползала, под пулями на карачках в сыром окопе сутками мокла под дождями, мёрзла на заиндевевшей броне, уцепившись за ледяную скобу башни.
Нет, на судьбу Илья не роптал. Сколько раз в Белоруссии, где в первые дни войны без вести пропал его отец, в обнимку со смертью в атаки ходил – тьфу, тьфу, пронесло…Но вражеские пули и осколки даже не царапнули – заговорённый, наверное, говорил об Илье ротный. В Польше, где его взвод почти в полном составе при переправе утонул, он выплыл на случайно подвернувшемся бревне. А в марте сорок пятого чуть не сгорел в амбаре, где ночевал их взвод и куда ошибочно попал снаряд нашей «Катюши». Но ничего, только испугом отделывался да шинель прожёг.
А вообще-то не хуже других воевал: на службу не напрашивался, от службы не отказывался. Нормально воевал – за спины товарищей не прятался, не подличал, и на войну грехи свои не списывал. Совесть в боях уберёг и от пуль шальных, и от лукавых соблазнов в богатых трофеями землях поверженного врага.
Рейхстаг Илье брать не довелось, о чём он очень жалел, но прусские города и ухоженные деревеньки со своей частью брал. В сильно разрушенном Кёнигсберге сержант Илья Лаврищев и встретил Победу. Демобилизовали Илью не сразу. В том же победном мае сорок пятого его, как дисциплинированного солдата, не замеченного в мародёрстве, назначили помощником командира взвода комендантской роты, определив исполнительного бойца поджидать приказ на демобилизацию на службе в комендатуре.
Как-то колючим серым днём поздней осени, как раз во время его дежурства, патруль притащил в комендатуру монаха из пригородного аббатства. Молодой мужик в католической сутане[1 - Сутана – верхняя католическая одежда с длинными рукавами католического духовенства, носимая вне богослужения.] был сильно напуган и бубнил себе под нос молитву по латыни.
– Вот, переодетая падла, – сказал рядовой Хренов, задержавший ряженого под пастора. – Улизнуть хотел. Я в патруле был с Митрофановым, задержался у канала, чтобы нужду малую большую справить – приспичило. Глядь, из форта этот святоша вылазит. И оглядывается по сторонам воровато. Ну, думаю, что монаху в форту делать? Подозрительно. Натянул штаны – и за ним. Хальт, кричу. А он – дёру! Вот и притащил его в комендатуру. Явно офицер немецкий, судя пот выправке. Может, даже эсесовец…
Илья в тот вечер был в самом благодушном настроении – только что поужинал американской тушёнкой под стакан немецкого шнапса. Лаврищев хоть и натерпелся вместе с народом от фашистской сволочи, но был отходчив душой – победа размягчила его ожесточившееся на войне сердце.
– И охота тебе с ним возиться, Хренов? – спросил солдата Илья. – На кой хрен нам этот священник?
– Я чуйкой чувствую – не священник он, – стоял на своём Хренов. – Ты глянь на него повнимательней. Выправк-то, выправка!.. Её не замаскируешь. Ишь, глазки к полу опустил!.. Такие, с невинными глазками, детишек и родителев наших расстреливали. У-у, сука!
Хренов замахнулся на монаха, католический священник воздал руки к разбитой люстре комендатуры, с новой силой залепетав на непонятном языке.
– Шпрехен зи дойч? – зачем-то спросил немца Илья, выказывая свои познания в немецком.
– Я знаю по-русски, – вдруг поднял на него большие серые глаза священник. – До войны, до университета, я с фатер, отцом своим, жил в вашей стране. Немецкие инженеры помогали вам строить тракторный завод. Я всегда восхищался русским человеком…
– Во поливает по-нашему, – восхитился сержант Лаврищев. – Уж не шпион, случаем? Ваше имя?
– Подождите, товарищ сержант, с допросом, – перебил его рядовой Хренов. – Надо сперва его обыскать, а то начнёт шманать в нас из «Вальтера» или «Парабеллума».
– Я – священнослужитель, лицо духовное, неприкосновенное, – запричитал человек в сутане.
– Сейчас узнаем, какой ты, святоша, духовное лицо… – бросил Хренов, срывая с него сутану.
– Что я вам говорил!.. – растягивая слова, проговорил он, тыча пальцем в петлицы мундира.
Под длинной одеждой «духовного лица» Илья и Хренов увидели чёрный китель офицера, который носила дивизия «Мёртвая голова».
(Вергилий).
Илья Лаврищев был призван в армию после освобождения Гуево от немцев. Уходил он на войну не из дома – из шалаша, который семнадцатилетний Илюха соорудил на пепелище. Части 65-й Армии генерала Батова так припёрли оккупантов, что своё уязвлённое самолюбие «непобедимых рыцарей», немцы, отступая, вымещали на местном населении.
Взвод под командованием обер-лейтенанта Фридриха Ланге ездил на мотоциклах по деревни, плескал на стены случайно выбранных домов гуевцев бензин из канистр, потом поджигали факел и бросали горящий факел к стене хаты или на крышу. И уже через полчаса пылающий костёр превращал хату в печальное пепелище.
В то утро, перед самой карательной акции немцев, матушка отправила Илью в Мирополье, к дядьке Семёну.
– Попроси, сынок, у нашего родственника мучицы или хоть ржи немолотой, – подавая Илье пустой мешочек, сказала мать. – Когда в последний раз ты с Зинкой и Зойкой хлеб-то ел?
– Лепёшки пополам с лебедой? – уточнил сын. – Неделю назад… Вчера я рыжиков из леса принёс… Свари на обед.
Мать горестно вздохнула:
– Две жмени грибов тех… Зойка в голодный обморок упала…Дед с печи не встаёт – опух с голодухи… А бабушка Настя животом третий день мается, боюсь помрёт нынче… Чем кормить вас – ума не приложу!..
Мать заголосила, закрыв жилистой рукой рот, чтобы девки, семилетняя Зина и пятилетняя Зоя, не услышали её рыданий.
– Будет, ма! Слезами горю не поможешь. А у дядьки Семёна и мучица водится? – спросил Илья.
– Он же паёк немецкий, как сельский староста, получал… Наскребёт чего-нибудь на нашу бедность. Он мужик не жадный… Земляков не гнобил, слава Богу…
Когда Илья вернулся в Гуево с мешочком ржаной муки, который спрятал на груди, под рубахой, их дом уже догорал… В огне эсесовцы живьём сожгли и матушку, и сестёр-малолеток и восьмидесятилетнего деда Кузьму. Никого живым из горящего дома немцы не выпустили.
Илья было бросился разгребать горячие угли и дымящиеся головешки – да какое там… Собрал только обгоревшие косточки родных ему людей.
Обгоревшие трупы матери, бабушки, деда Кузьмы и двух сестричек Илюха похоронил на старом гуевском погосте в одном гробу, который сам и сколотил из обгоревших, но ещё подходящих для этого скорбного ящика досок. Понимал парень, державший слезу на привязи: по-человечески надобно похоронить.
Помогала, как и чем могла, Вера Ковалёва, к которой в последние годы был неравнодушен Илья. Девушка отвечала ему взаимностью. «Значит, любовь промеж нас образовалась, – думая Ковалёвой Верке решил для себя Илья. – После войны распишемся в сельсовете, детей нарожаем, дом построим – и заживём не хуже других».
Но тогда не мысли о любви лезли в голову убитого горем Илюхи.
– Ты, Илюша, поплачь, поплачь, – сказала Вера. – По себе знаю – легче будет… А то с горя и сам рядом с ними ляжешь…
– Отольются им наши слёзы, – скрипел зубами Илья. – Верю, что батя жив и их там, на фронте, лупцует!.. И я скоро на войну уйду. За всё гадам отомщу!.. Ничего и никого из них не пропущу, не забуду во век и не спущу…
Верка и сердобольные соседки, у кого горя было не меньше, слезами помянули зверски убиенных Лаврищевых – больше, увы, было нечем. А мешочек с ржаной мукой от дядьки Семёна Илья Верке отдал – многодетная их семья голодала пуще других.
– Куда ты теперь? – вытирая ладонь слёзы, спросила Вера.
– Как-нибудь перебьюсь, – буркнул Илья. – Ноги, руки есть – не пропаду, небось…
В тот же скорбный день хотел он податься к своему дальнему родственнику, к двоюродному дядьке Семёну. Чтобы до призыва в действующие части пожить у него. Илья был уверен, что этот староста Семен – вовсе и не староста. Хмур был и угрюм с виду, а зла людям не чинил. Парень думал, что родственник его в оккупацию был с партизанами курскими связан, либо отступавшей в сорок первом Красной армией оставлен в тылу врага… Для сбора разведданных. Не гнобил, по словам матери, своих земляков дядька Семен, а кому-то из баб даже шибко подмогнул избежать неметчины, когда туда стали угонять здоровых деревенских женщин, вдов и солдаток.
Хотел податься к дядьке Семену, да расхотел… Лёньчик, скользкий деревенский мужичонка по прозвищу Блоха, нашедший себе с приходом наших тёплое местечко в сельсовете, где он составлял списки военнообязанных парубков, упредил вовремя:
– Не к кому теперича итить тебе, Илюха. Вчерась повесили старосту. Как фашистского наймита, немецкого прихвостня.
– Как повесили? – опешил Илья.
– За шею, вестимо, – засмеялся Лёньчик. – Семен всё про каких-то московских монашек и советского разведчика, шо немцам не сдал, сказки трибунальской тройке рассказывал. Не поверили. Свидетелей-то – тю-тю, не нашлось.
– А что ж ты не подтвердил, что Семён никому из селян худа не делал. Ездил только по околотку на своём велике да горилкой горящую душу тушил… Вот и весь вред его.
– А какой я свидетель? Я в своей хате тихохонько сидел, гадал, чем детишек та жёнку кормить? Корову-то, кормилицу нашу, эти суки немецкие сожрали, неделю взвод отбивные жарил… Шо б им подавиться! А свидетель – дело опасное. Сперва свидетель, а потом и к стенке поставят.
Какое-то время Илья перебивался с воды на хлеб у соседей. Но чужой хлеб всегда горек. Так лучше уж к армейской части прибиться, подумал Илья. У солдатской каши не загинешь. У бойцов, рассуждал парень, и новая форма с погонами и звездами у командиров, справная одежда, и обувка – ботинки или даже сапоги, а не чуньки дырявые, как у него. А какими ароматами дымит их кухня полевая!.. Живот к позвоночнику прилипает от тех запахов и слюни текут. А котёл кухонный ёмкий такой, видать, способен запросто зараз прокормить целую роту таких, как он, голодных ртов.
Нашёл в сундуке Илья свою метрику и приписал себе недостающий год. В клубе, где формировали гуевских и миропольских салаг для отправки в регулярные части, никто не усомнился в призывном возрасте рослого, не по годам зрелого Илюхи Лаврищева. И не заметили (или сделали вид, что не заметили) исправленную цифру в метрике Ильи Лаврищева.
Воевал он в пехоте – «царице полей»… Что б тому выдумщику, кто её так прозвал, икнулось, думал парень на Курской дуге, куда в начале августа попал рядовой Лаврищев. В освобождённый Орёл уже входил не безусый салажонок, а обстрелянный бывалый солдат. Фронтовик, словом.
Всякое с Ильёй Лаврищевым на войне было. Но на судьбу не роптал. Притерпелся и к военным будням царицы полей… Хотя мыслимое ли это дело, чтобы царица по грязи на пузе ползала, под пулями на карачках в сыром окопе сутками мокла под дождями, мёрзла на заиндевевшей броне, уцепившись за ледяную скобу башни.
Нет, на судьбу Илья не роптал. Сколько раз в Белоруссии, где в первые дни войны без вести пропал его отец, в обнимку со смертью в атаки ходил – тьфу, тьфу, пронесло…Но вражеские пули и осколки даже не царапнули – заговорённый, наверное, говорил об Илье ротный. В Польше, где его взвод почти в полном составе при переправе утонул, он выплыл на случайно подвернувшемся бревне. А в марте сорок пятого чуть не сгорел в амбаре, где ночевал их взвод и куда ошибочно попал снаряд нашей «Катюши». Но ничего, только испугом отделывался да шинель прожёг.
А вообще-то не хуже других воевал: на службу не напрашивался, от службы не отказывался. Нормально воевал – за спины товарищей не прятался, не подличал, и на войну грехи свои не списывал. Совесть в боях уберёг и от пуль шальных, и от лукавых соблазнов в богатых трофеями землях поверженного врага.
Рейхстаг Илье брать не довелось, о чём он очень жалел, но прусские города и ухоженные деревеньки со своей частью брал. В сильно разрушенном Кёнигсберге сержант Илья Лаврищев и встретил Победу. Демобилизовали Илью не сразу. В том же победном мае сорок пятого его, как дисциплинированного солдата, не замеченного в мародёрстве, назначили помощником командира взвода комендантской роты, определив исполнительного бойца поджидать приказ на демобилизацию на службе в комендатуре.
Как-то колючим серым днём поздней осени, как раз во время его дежурства, патруль притащил в комендатуру монаха из пригородного аббатства. Молодой мужик в католической сутане[1 - Сутана – верхняя католическая одежда с длинными рукавами католического духовенства, носимая вне богослужения.] был сильно напуган и бубнил себе под нос молитву по латыни.
– Вот, переодетая падла, – сказал рядовой Хренов, задержавший ряженого под пастора. – Улизнуть хотел. Я в патруле был с Митрофановым, задержался у канала, чтобы нужду малую большую справить – приспичило. Глядь, из форта этот святоша вылазит. И оглядывается по сторонам воровато. Ну, думаю, что монаху в форту делать? Подозрительно. Натянул штаны – и за ним. Хальт, кричу. А он – дёру! Вот и притащил его в комендатуру. Явно офицер немецкий, судя пот выправке. Может, даже эсесовец…
Илья в тот вечер был в самом благодушном настроении – только что поужинал американской тушёнкой под стакан немецкого шнапса. Лаврищев хоть и натерпелся вместе с народом от фашистской сволочи, но был отходчив душой – победа размягчила его ожесточившееся на войне сердце.
– И охота тебе с ним возиться, Хренов? – спросил солдата Илья. – На кой хрен нам этот священник?
– Я чуйкой чувствую – не священник он, – стоял на своём Хренов. – Ты глянь на него повнимательней. Выправк-то, выправка!.. Её не замаскируешь. Ишь, глазки к полу опустил!.. Такие, с невинными глазками, детишек и родителев наших расстреливали. У-у, сука!
Хренов замахнулся на монаха, католический священник воздал руки к разбитой люстре комендатуры, с новой силой залепетав на непонятном языке.
– Шпрехен зи дойч? – зачем-то спросил немца Илья, выказывая свои познания в немецком.
– Я знаю по-русски, – вдруг поднял на него большие серые глаза священник. – До войны, до университета, я с фатер, отцом своим, жил в вашей стране. Немецкие инженеры помогали вам строить тракторный завод. Я всегда восхищался русским человеком…
– Во поливает по-нашему, – восхитился сержант Лаврищев. – Уж не шпион, случаем? Ваше имя?
– Подождите, товарищ сержант, с допросом, – перебил его рядовой Хренов. – Надо сперва его обыскать, а то начнёт шманать в нас из «Вальтера» или «Парабеллума».
– Я – священнослужитель, лицо духовное, неприкосновенное, – запричитал человек в сутане.
– Сейчас узнаем, какой ты, святоша, духовное лицо… – бросил Хренов, срывая с него сутану.
– Что я вам говорил!.. – растягивая слова, проговорил он, тыча пальцем в петлицы мундира.
Под длинной одеждой «духовного лица» Илья и Хренов увидели чёрный китель офицера, который носила дивизия «Мёртвая голова».