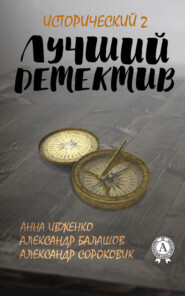По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Камни прошлого
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дерево было старым. В метре от земли в дряхлеющем стволе образовалось дупло. С годами дупло становилось всё больше и больше. Игорю казалось, что росло вовсе не дерево – росло дупло. В него, ещё пацаном, он любил забираться летом, когда полуденное солнце припекало голову через картуз. Внутри огромного дупла стояла осенняя прохлада, пахло прелью, какими-то грибами и было сыровато от ещё живого дерева, всё ещё наполненного жизненными соками. И этот запах в своих воспоминаниях не давал ему покоя – так хотелось той тихой и простой радости детства. Радости ожидания если и не чуда, то чего-то очень важного, значительного, светлого… Того, что, в сущности, и наделяет нас радостью простой и такой желанно-привычной жизни.
Игорь Ильич знал: если забраться на макушку старого дерева, то с высоты был хорошо виден отчий дом, который построили его отец с матерью ещё в сорок восьмом году, за два года до его рождения. А посмотришь на Восток – и на меловой горе, в хорошую погоду, можно рассмотреть остроконечный шпиль старинного Горнальского мужского монастыря и купол с крестом, венчавший церковь Рождества Пресвятой Богородицы… Там, рассказывала ему в детстве мать, монахи ка зеницу ока хранили чудотворную икону Пряжевской Божией Матери, привезённую ими в очекнь давние времена аж с самой Греции.
Игорь Ильич хорошо помнил, как мать рассказывала ему, уже что-то кумекавшему своей русой головкой, о том, как его крестили в действовавшей монастырской церквушке. Для отца-коммуниста, тогда ещё не застреленного бандитами, приехавшими добыть в их новом доме, пахнущем свежей смолой сосновых досок, царский перстень, о котором не врал напропалую только самый ленивый в округе, крещение сына могло дорого обойтись. Если бы кто из гуевцев донёс о церковном обряде, то Илью Захарова сперва исключили бы из партии, а затем в шею бы погнали из колхозных бригадиров.
– Ма, а зачем маленьких крестят? – спросил тогда маленький Игорёк.
– И маленьких, и больших крестят в церкви, чтобы их Господь хранил. Спасал и хранил, – ответила мать. С крещённым – Бог. И он всегда – с Богом. Зря что ли батюшка тебе крестик повесил? То-то…
…В тот приезд к матери Лаврищев донимал мать уже с позиции изрядно подпорченного атеизмом работника внутренних органов. То есть с шаткой позиции колеблющегося. В своём половинчатом отношении к религии был он, как все. Или – почти, как все: к Богу обращался, когда припрёт так, что дальше некуда… Полуверие – это неверие. Таких сирых и убогих, нищих духом с небес трудно заметить. Как-то услышал у Юлиана запись песни Высоцкого и удивился с неясной причиной восхищения глубине и силе слов народного любимца: «Купола в России кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал…».
В Библии, чья мудрость проверена столетиями, сказано: если уивидишь разумного, ходи к нему с раннего утра, и пусть нога твоя истирает пороги дверей его. Матушка его была мудра. Это он поздно понял… Во времена его детства и юности гуевцы опрометчиво отмахнулись и от мудрой Книги, и от мудрых людей. Да и сам Игорь Ильич считал религиозность матери следствием её малой образованности. «Тёмен ещё народец наш, – думал следователь. – В космос уже сколько раз слетали, а мать всё на иконы в красном углу крестится».
– А ты, сынок, во что или в кого веруешь? – в тот приезд своего ненаглядного Игорёшки спросила мать.
– Я, мать, в его величество закон верю. Ему и служу верой и правдой.
Мать вздохнула, глядя на сына уставшими и мудрыми глазами, в которых всегда стояли слёзы, готовые пуститься по морщинистым щекам сухого загорелого лица.
– Главное, чтобы твои законы согласовывались с Божескими.
Лаврищев улыбнулся:
– Ма! У Бога всего десять заповедей, кажется, а мои законы в толстенный толмуд УК РСФСР не влезают. А ты говоришь, чтоб «согласовывались»…
Баба Вера нахмурилась, сухо сказала:
– Дурак ты ишшо, Игорёшка, хучь и лоб до макушки лорос!.. Не убий, не укради, чти мать и отца своего… Какие ишшо законы надо выдумывать? Ты хучь тыщу их напиши, не будут они отвечать Божескому Закону, главному закону нашей совести, пустыми и мёртвыми они будут в жизни человека. Ты там, в Москве своей, в церкву-то, хоть на Пасху, ходишь?
– На Псаху в ней и президент с правительством Богу молятся. За Россию, наверное. Значит, и за меня, дурака грешного! – рассмеялся следователь.
Тогда Лаврищев удивился набожности матери. В детстве, когда Вера Ивановна Лаврищева, мать его, от зари до зари горбатилась в колхозе «Ленинский путь», то тяпая сорняки в поле, то работая на ферме дояркой, он не замечал её религиозности. Как-то даже пошутил грубо, сказав матери, что отстающее их коллективное хозяйство нужно срочно переименовать в колхоз «Пути Господни неисповедимы». Мать дала ему, уже женихавшемуся парню, звонкую затрещину – не богохульствуй, мол.
Сколько себя помнил Игорь Ильич, икона Богородицы всегда висела в красном углу. Разве это говорило ему о чём-то? Ну, висела и висела старая икона, написанная на доске. По церковным праздникам мать зажигала под иконой лампадку, мерцавшую по вечерам ровным жёлтым огоньком. Вот и всё, что осталось в его памяти о религиозности своей мамы Веры?
Но что, если не вера матери, помогла этой хрупкой на вид женщине, после смерти отца, когда на её руках остались трое её детей, вынести все испытания, выпавшие на её долю? Цепкая детская память Игоря на всю жизнь запомнила, будто сфотографировала, фантастическую и даже натуралистическую по своей жестокости картину – мать на пеньковом канате таскает с поля на обочину просёлочной дороги огромные гранитные валуны, которые каждую весну выдавливала из себя земля. Невесть откуда, из какого прошлого планеты, были они родом…Угодил так угодил с очередным нарядом на работу кум Веры Лаврищевой, председатель колхоза «Ленинский путь» Шабардин, «Шабарда чёртова», как звали его гуевские бабы.
Случилось это той весной, когда бандиты, не найдя золотого кольца с драгоценным камнем, на глазах жены и детей застрелили отца Игоря, определил свою упрямую куму, отказавшую куму в близости, стаскивать с поля неподъёмные камни. Тракторов в колхозе тогда было мало, а баб, вдов всех возрастов и габаритов, а так же молодух, хватало. Были и настоящие богатырки, что и «коня на ходу остановят, и в горящую избу войдут…». Так нет, дал наряд Вере Лаврищевой и её подружке, Фросе Журавлёвой, гуевской «правдолюбке», бабе с острым языком, страдавшей больными бронхами. Фрося от непосильной работы тут же слегла, захаркав кровью от «блатной работёнки», как мрачно шутил на наряде Шабарда.
Оставшись без подмоги, мать обвязывала валун верёвкой, сделав помочи, запрягалась в пеньковую упряжь – и тащила его на обочину дороги, вязнув резиновыми сапогами в раскисшем от весенних дождей чернозёме. И вот таким макаром одна, удивив всю деревню, вытащила на развилку просёлка, соединявшегося с большаком, огромный красноватый, в белёсых прожилках огромный валун, прозванный потом её односельчанами Вериным Камнем. Игорь ещё мальчишкой, когда возвращался из Суджи по большаку, шёл на два верных ориентира, чтобы не сбиться с пути – на старую ракиту с дуплом и на Верин Камень. Как на маяк шёл он на гранитный валун и в молочно-туманное утро, и в густую осеннюю темень. И всегда, выходя на Верин Камень, думал: непонятно как, очевидно, только с Божьей помощью, сволокла с пахотного поля этот огромный камень матушка. И ведь вовсе не богатырка, а сухопарая крестьянка-колхозница, вдова, многодетная мать его – Вера Ивановна Лаврищева, урождённая Ковалёва.
Как-то, не выдержав, спросил мать:
– Как ты сдюжила с тем камушком-то, ма?
– С каким камушком? – насторожилась мать.
– Ну, с тем валуном, что все зовут Вериным Камнем?
– Господь помог, – отмахнулась от вопроса Игоря мать. – И чудотворная Пряжевская икона Богородицы. Верить, терпеть, прощать и любить. Этим и живу по сей день.
В тот свой приезд в Гуево Игорь Ильич из простого любопытства, «из интереса», как он сам определил свой мотив, пошёл с крестоходцами из Горналя в Гуево. Шли с чудотворной иконой Прсвятой Богородицы, привезённой монахами из Греции ещё в 14 веке, спускались с крутой горы, на которой стоял монастырь, под песнопения церковного хора и верующих шли через поле, минуя Верин Камень. Потом через деревянный мост перебрались к соседям, в украинское Мирополье, а потом, по холмам и яругам в обратный путь.
И странное, необъяснимое чувство вдруг охватило его, человека с партбилетом в кармане, записного безбожника, в этой пёстрой толпе, шагавшей с иконами и хоругвями сквозь дрожащий зной летнего дня. Это чувство, знакомое ему по детским ощущениям, звалось – РАДОСТЬЮ. Такое ставшее таким редким, почти утраченным в бытовой и служебной суете животворящее человеческое чувство, без которого не бывает человеческого счастья.
– Знаешь, сынок, – провожая сына до Вериного Камня, сказала мать. – А у тебя за эти три дня глаза другими стали…
– Какими же? – улыбнулся Игорь Ильич, целую руку матери. – Как были серо-зелёными, бедовыми, такими, верно, и остались.
– Мне виднее, – покачала головой мать. – Они у тебя после крестного хода снова зажглись огнём жизни… Великой мудростью, которая исходит от чудотворной иконы нашей.
Лаврищев усмехнулся:
– Что ж это за мудрость такая?
– А ты не смейся, голубок, не смейся… Мудрость проста, да забыта нынче в погоне за золотым тельцом…
– Да в чём она, мама?
– В четырёх словах, сын.
Баба Вера помолчала и, глубоко вздохнул, открыла её любимому сыну:
– Верить, терпеть, прощать и любить.
– И всё? – удивился Лаврищев.
– В этом – всё, – кивнула мать. И добавила: – Ты там, в Москве своей, хоть на Пасху и Рождество в церковь иногда заглядывай. А то крестик на груди носишь, да этого мало для истиной веры и любви…
Вернувшись домой, в Москву, он ни слова не проронил о матери, коротавшей свой вдовий век в полном одиночестве, о родной деревне, о крестном ходе с чудотворной иконой, у которой он молча попросил-таки здоровья для сильно сдавшей за последние годы бабы Веры. И для своей семьи попросил у Богородицы здоровья. Вот любви попросить – как-то запамятовал. А ведь мать тогда наставляла его перед заходом с чудотворной иконой в её обитель, монастырскую церковь: первым делом проси, сынок, у Богородицы любви и заступничества. Любви и заступничества… Не привык, видно, следователь просить. Привык требовать. Не попросил того, что ни за какие деньги не купишь. И невдомёк тогда Игорю Ильичу было, что без Любви нет за земле Радости. Так уж устроен Создателем этот прекрасный и яростный мир.
Вернулся Лаврищев в столицу с просветлённой душой. Хотелось рассказать о тёплом ласковом чувстве, предтече истинной радости, которую он испытал, побывав на празднике детства. Никто в Москве так и не поинтересовался, где и как провёл эти счастливые три дня Игорь Ильич. Только Юлиан подначил:
– Ну что, Лаврищев, нашёл пропавший камушек с куриное яйцо?
– Голова у тебя, сынок, с куриное яйцо. Это я, судя по твоему вопросу, хорошо вижу.
Юлиан обиделся. Пасынок мельком глянул на своё отражение в зеркале, висевшем в прихожей, и сказал, надув губы:
– Ничего себе «с куриное яйцо»… Пятьдесят шестой размер шапки ношу, Лаврищев. Пора бы запомнить.
Шло время, как ему и положено идти. Лаврищеву иногда казалось, что время так спешит, будто хочет поскорее пройти мимо. Не оборачиваясь, без ностальгических ахов и охов, отсекая Игоря Ильича от его же прошлого. «Время, вперёд!» – музыкой Свиридова напоминала информационная программа по теле-ящику. И в этой торопливой суете сует как-то незаметно поблекли воспоминания о детстве, юности. Через пятнадцать лет столичной жизни Лаврищев уже с трудом представлял, как выглядели его сестра и брат, его многочисленные дядьки и тётки, вся его многочисленная гуевская родня.
Гасла его родовая звезда, которая всегда помогала ему раньше выбираться из любых аховых ситуаций. Слабли и рвались родственные связи, те незримые, но так необходимые человеку нити, связывающие его родством не только с родными людьми по крови, но и родной землёй, зовущейся святым словом – Родина.
Поблекли, поистёрлись во времени когда-то такие родные лица, как на старой любительской фотографии – вроде бы фигуры людей, лица их на пожелтевшем снимке остались, а поди разбери по прошествии стольких лет, кто есть кто? Мало радости приносят такие фотографии, на которых и через увеличительное стекло видны одни только очертания. Раздражают они глаза. Очертания радости – радость уходящая, умирающая. Уходит она не сразу, исподволь, тихими мелкими шажочками, как вор в ночи, никогда не прощаясь… Но после своего полного забвения – никогда не возвращающаяся в опустевшую душу, ставшую без радости постылой, равнодушной и для всех чужой.
ЕСЛИ СЧАСТЬЕ ДОЛГО НЕ НАСТУПАЕТ, НАСТУПИ В НЕГО САМ