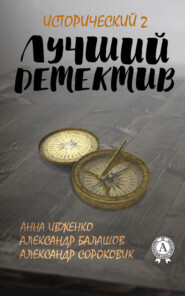По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Камни прошлого
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Лаврищев и сегодня хорошо помнит, как мать, кормившая во дворе кур, вздрогнула от неожиданности – будто видела фантом, а не живого сына, а потом глаза её потеплели, повлажнели… Она всплеснула руками:
– Ты, Игорёшка?!. А загорел-то, а загорел!..
Они обнялись. Мать заголосила в голос от нежданного счастья. Потом промокнула концами платка глаза и тут же по своей привычке засыпала его вопросами:
– А чуб где? Лыс, што моя коленка… А жана? А дети, унуки мои, иде? А счастлив ли ты с новой жаною? А то всё сны такие жуткие снятся, кошмары, прям. Чую сердцем, сынок, что висит твоё счастье на волоске…
Он, улыбаясь, успокоил мать:
– Счастлив, вполне счастлив, мама! В Москве, вот, живу…
– Ты, сынок, как на фотографии – лучше выходишь, когда улыбаешься.
– Не, честное слово, ма! Всё в полной норме. Не хуже, наверное, чем у брата и сестры. Как они там?
Баба Вера неопределённо махнула рукой.
Московский гость хитро улыбнулся матери:
– А потом, ма, счастье лысых не может висеть на волоске.
– Ох, сыночек! Не лысина это – лоб крутой. Как у бати твоего, – любуясь своим первенцем, вздохнула мать. – Вот подарок так подарок… Завтра же день какой – седьмое июля! Тебе сорок пять стукнет. Аль забыл? В Москве живешь, на самой горке, а мы тут доедаем корки. Но на стол найду что поставить. Я ведь тебя, оболдуя, всегда любила и люблю. Дня не прошло, чтобы о тебе не вспомнила…
– На завтра и зови гостей! Всех, кто ещё жив в Гуево нашем. А сейчас – в речку! В студёный Псёл, а то, чувствую, сейчас закиплю… Жар-и-и-ища.
– Сперва давай к бате на кладбище сходим. Могилка-то травой заросла… Силы уж не те, коса из рук вываливается.
– Сходим и к бате. Обязательно сходим. И помянем… И могилку обкошу отцовскую. Отпуск всё-таки, ма! А отпуск – это маленькая жизнь. Всё, что мне нужно для счастья – твоё доброе слово, кружка молока, постель на сеновале и ключевая вода Псёла! Этого в Москве ни за какие деньги не купишь.
– Денежки-то водятся, Игорёшка?
– Не-а! Не любят они меня, ма.
– Это хорошо, – неожиданно заключила мать. – Не в деньгах счастье, сынок. – Это хорошо, что не любят. И ты их не приваживай. Держи в кошельке по надобности, к сердцу токмо не допускай.
Три дня, целых три счастливых дня, он, сверкая на солнце загорелой лысиной, по утрам, как в детстве, стремглав мчался от дома к синевшей в яруге ленте реки со студёной хрустально-чистой водицей. Тогда он с разбегу врезался в ледяные объятия реки Псёл, несущей свои чистые воды Днепру-батюшке, и кричал на всю округу радостным голосом счастливого великовозрастного дитяти: «Бр-р! Хододно, мама! Но как хорошо-о-о!.. Как хорошо-то, Господи! Будто заново родился!» Он размашисто плыл к другому берегу юркой извилистой речушки, и сердце матери замирало, тревожась за сына. Будто этот сорокапятилетний мужик снова был тем её Игорёшкой, только-только научившимся держаться на воде реки с крутым норовом.
– Ну, хватит, хватит плескаться! – позвала мать с берега. – Вылезай, обсыхай и айда со мной к Горнальскому монастырю.
– Это зачем к монастырю? – спросил Лаврищев, прыгая на одной ноге по гусиной лапчатке, густым зелёным ковром покрывавшей берега Псёла и выливая воду из уха. – Я ведь в Гуево всего на три дня заехал. Одиннадцатого на службу. Богу молиться некогда…
– Богу молиться всегда есть время! – перебила сына мать. – Вон усы уже седеют, а о душе не заботишься. Живёшь одним днём.
– О душе моей окаянной начальство очень хорошо печётся, – сам своей шутке улыбнулся Лаврищев. – Теперь, ма, даже правительство Богу молится. Перед телекамерами, разумеется. Образцово-показательно, так сказать.
– Не богохульствуй! – прикрикнула на сына, распустившего язык, мать. – Сказано, што пойдёшь в Свято-Никольский монастырь, значит пойдёшь. Крестный ход сегодня. Понесём чудотворную икону Пряжевской Божией Матери. Из монастырской церкви через Гуево с заходом на украинское Мирополье. Среди крестоходцев миропольцев не менее ста человек бывает. Все мы христиане, одним миром мазаны. Вот и молись, проси заступничества у Божией Матери…
Мать повернулась к иконе Богородицы, перекрестилась и вздохнула, глядя на сына-атеиста:
– Мой грех, Игорь, что тебя безбожником воспитала… А где веры нет, там всё шатко… Там власть долго не стоит.
Лаврищев приобнял сильно постаревшую мать.
– Не кори себя, мама, – сказал он. – Тебе себя не в чем упрекнуть. Троих детей без отца подняла. Все уже крепко на своих ногах стоят. А вера… Что вера? Это дело совести каждого. Ты вот, вижу, веруешь, так и веруй в Христа на здоровье. Нынче золотой телец его теснит сильно…Все у Него сперва богатства просят, а уж потом здоровья. А про любовь к ближнему и дальнему и вовсе забывают.
Мать вздохнула:
– Что правда, то правда… С ума люди посходили, что ли?. Вот и сестра твоя с братом прошлым годом приезжали. Весь дом и амбар перерыли, печку разбирать хотели…
– Это зачем ещё?
– Так и меня наизнанку выворачивали, твоя сестричка с Васькой. Он год как освободился… И снова золотишком бредит.
– Ты не загадками, прямо говори. Чего хотели?
– Да то кольцо с блестючим камнем искали… Проклято то колечко, видно, кем-то…
– Это ты сказку, придуманную завистливым соседом, вспомнила?
Мать покачала головой:
– Навет злобный, а не добрую сказку… Будто вчерась всё было…Тебе третий годок шёл, за подол твоя сестрёнка держится, на руках Васька, братишка твой, грудничок ишшо… Вошли трое, с наганом в руке один. Иде кольцо с брильянтом? Я им одно грю: нетути никаких у нас брильянтов. И не было никогда. Наветы это всё злых людишек. А бандюки в одну душу: куда схоронили, сволочи, то, што этот фраер с войны припёр. Я голошу, слезами умываюсь: сочинил кум эту брехаловку про золотой перстенёк немецкий, от зависти, что у нас коровка-кормилица тогда завелась, молочко в хате завелось… У кума-то глаза завидущие, а руки-крюки, только воровать за усю жизнь и сподобились. Сахарные бураки с колхозного поля по ночам копал да самогонку в посадке гнал. Тем и жил, паразит. И жил припеваючи, а нам смертельно завидовал. Чёрной бедой то враньё его для нас, Лаврищевых, обернулось…Отец твой молчит, хмурится…Он бригадирил тогда в колхозе-то… А тут машина с большака пылит какая-то. Они бежать, а на последок в Илью и стрельнули…Прямо в живот. Помаялся ночь он, все губы свои от боли искусал, бедный, и до срока в могилу лёг, вас сиротами оставил…
И баба Вера полилась ручьём, разбередив душу непрошенными воспоминаниями.
– А дядька Гриша, муж твоей сестры, говорил мне, что всё это правда…
– Что правда, сынок?
– Правда про царский перстень, который батя из Кёнегсберга привёз. Дядька говорил, что сам его в руках держал, камнем сверкающем на солнце любовался…
Мать замахала руками:
– Не верь! Никому не верь, Игорёшка! От лукавого этот перстень! Проклят он своими хозяевами… Много крови на нём. Зачем горе множить? Пусть лежит, где я его похоронила…
Лаврищев поднял брови:
– Так это, ма, не сказка? Не легенда о царском перстне?
Мать долго молчала, суша непрошенные слёзы. Потом вздохнула:
– Пойдём к отцу на кладбище сходим, помянем раба Божьего Илью… Придёт время – всё и ты узнаешь. Как было, как есть. А может, и как будет…
И снова поднесла платок к заплаканным глазам:
– Это надо же: на войне ни царапины не получил. А перстень тот, – будь он трижды проклят! – его в могилу свёл… Забудь о нём, сын. Забудь. Но помни об отце.
НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ
– Ты, Игорёшка?!. А загорел-то, а загорел!..
Они обнялись. Мать заголосила в голос от нежданного счастья. Потом промокнула концами платка глаза и тут же по своей привычке засыпала его вопросами:
– А чуб где? Лыс, што моя коленка… А жана? А дети, унуки мои, иде? А счастлив ли ты с новой жаною? А то всё сны такие жуткие снятся, кошмары, прям. Чую сердцем, сынок, что висит твоё счастье на волоске…
Он, улыбаясь, успокоил мать:
– Счастлив, вполне счастлив, мама! В Москве, вот, живу…
– Ты, сынок, как на фотографии – лучше выходишь, когда улыбаешься.
– Не, честное слово, ма! Всё в полной норме. Не хуже, наверное, чем у брата и сестры. Как они там?
Баба Вера неопределённо махнула рукой.
Московский гость хитро улыбнулся матери:
– А потом, ма, счастье лысых не может висеть на волоске.
– Ох, сыночек! Не лысина это – лоб крутой. Как у бати твоего, – любуясь своим первенцем, вздохнула мать. – Вот подарок так подарок… Завтра же день какой – седьмое июля! Тебе сорок пять стукнет. Аль забыл? В Москве живешь, на самой горке, а мы тут доедаем корки. Но на стол найду что поставить. Я ведь тебя, оболдуя, всегда любила и люблю. Дня не прошло, чтобы о тебе не вспомнила…
– На завтра и зови гостей! Всех, кто ещё жив в Гуево нашем. А сейчас – в речку! В студёный Псёл, а то, чувствую, сейчас закиплю… Жар-и-и-ища.
– Сперва давай к бате на кладбище сходим. Могилка-то травой заросла… Силы уж не те, коса из рук вываливается.
– Сходим и к бате. Обязательно сходим. И помянем… И могилку обкошу отцовскую. Отпуск всё-таки, ма! А отпуск – это маленькая жизнь. Всё, что мне нужно для счастья – твоё доброе слово, кружка молока, постель на сеновале и ключевая вода Псёла! Этого в Москве ни за какие деньги не купишь.
– Денежки-то водятся, Игорёшка?
– Не-а! Не любят они меня, ма.
– Это хорошо, – неожиданно заключила мать. – Не в деньгах счастье, сынок. – Это хорошо, что не любят. И ты их не приваживай. Держи в кошельке по надобности, к сердцу токмо не допускай.
Три дня, целых три счастливых дня, он, сверкая на солнце загорелой лысиной, по утрам, как в детстве, стремглав мчался от дома к синевшей в яруге ленте реки со студёной хрустально-чистой водицей. Тогда он с разбегу врезался в ледяные объятия реки Псёл, несущей свои чистые воды Днепру-батюшке, и кричал на всю округу радостным голосом счастливого великовозрастного дитяти: «Бр-р! Хододно, мама! Но как хорошо-о-о!.. Как хорошо-то, Господи! Будто заново родился!» Он размашисто плыл к другому берегу юркой извилистой речушки, и сердце матери замирало, тревожась за сына. Будто этот сорокапятилетний мужик снова был тем её Игорёшкой, только-только научившимся держаться на воде реки с крутым норовом.
– Ну, хватит, хватит плескаться! – позвала мать с берега. – Вылезай, обсыхай и айда со мной к Горнальскому монастырю.
– Это зачем к монастырю? – спросил Лаврищев, прыгая на одной ноге по гусиной лапчатке, густым зелёным ковром покрывавшей берега Псёла и выливая воду из уха. – Я ведь в Гуево всего на три дня заехал. Одиннадцатого на службу. Богу молиться некогда…
– Богу молиться всегда есть время! – перебила сына мать. – Вон усы уже седеют, а о душе не заботишься. Живёшь одним днём.
– О душе моей окаянной начальство очень хорошо печётся, – сам своей шутке улыбнулся Лаврищев. – Теперь, ма, даже правительство Богу молится. Перед телекамерами, разумеется. Образцово-показательно, так сказать.
– Не богохульствуй! – прикрикнула на сына, распустившего язык, мать. – Сказано, што пойдёшь в Свято-Никольский монастырь, значит пойдёшь. Крестный ход сегодня. Понесём чудотворную икону Пряжевской Божией Матери. Из монастырской церкви через Гуево с заходом на украинское Мирополье. Среди крестоходцев миропольцев не менее ста человек бывает. Все мы христиане, одним миром мазаны. Вот и молись, проси заступничества у Божией Матери…
Мать повернулась к иконе Богородицы, перекрестилась и вздохнула, глядя на сына-атеиста:
– Мой грех, Игорь, что тебя безбожником воспитала… А где веры нет, там всё шатко… Там власть долго не стоит.
Лаврищев приобнял сильно постаревшую мать.
– Не кори себя, мама, – сказал он. – Тебе себя не в чем упрекнуть. Троих детей без отца подняла. Все уже крепко на своих ногах стоят. А вера… Что вера? Это дело совести каждого. Ты вот, вижу, веруешь, так и веруй в Христа на здоровье. Нынче золотой телец его теснит сильно…Все у Него сперва богатства просят, а уж потом здоровья. А про любовь к ближнему и дальнему и вовсе забывают.
Мать вздохнула:
– Что правда, то правда… С ума люди посходили, что ли?. Вот и сестра твоя с братом прошлым годом приезжали. Весь дом и амбар перерыли, печку разбирать хотели…
– Это зачем ещё?
– Так и меня наизнанку выворачивали, твоя сестричка с Васькой. Он год как освободился… И снова золотишком бредит.
– Ты не загадками, прямо говори. Чего хотели?
– Да то кольцо с блестючим камнем искали… Проклято то колечко, видно, кем-то…
– Это ты сказку, придуманную завистливым соседом, вспомнила?
Мать покачала головой:
– Навет злобный, а не добрую сказку… Будто вчерась всё было…Тебе третий годок шёл, за подол твоя сестрёнка держится, на руках Васька, братишка твой, грудничок ишшо… Вошли трое, с наганом в руке один. Иде кольцо с брильянтом? Я им одно грю: нетути никаких у нас брильянтов. И не было никогда. Наветы это всё злых людишек. А бандюки в одну душу: куда схоронили, сволочи, то, што этот фраер с войны припёр. Я голошу, слезами умываюсь: сочинил кум эту брехаловку про золотой перстенёк немецкий, от зависти, что у нас коровка-кормилица тогда завелась, молочко в хате завелось… У кума-то глаза завидущие, а руки-крюки, только воровать за усю жизнь и сподобились. Сахарные бураки с колхозного поля по ночам копал да самогонку в посадке гнал. Тем и жил, паразит. И жил припеваючи, а нам смертельно завидовал. Чёрной бедой то враньё его для нас, Лаврищевых, обернулось…Отец твой молчит, хмурится…Он бригадирил тогда в колхозе-то… А тут машина с большака пылит какая-то. Они бежать, а на последок в Илью и стрельнули…Прямо в живот. Помаялся ночь он, все губы свои от боли искусал, бедный, и до срока в могилу лёг, вас сиротами оставил…
И баба Вера полилась ручьём, разбередив душу непрошенными воспоминаниями.
– А дядька Гриша, муж твоей сестры, говорил мне, что всё это правда…
– Что правда, сынок?
– Правда про царский перстень, который батя из Кёнегсберга привёз. Дядька говорил, что сам его в руках держал, камнем сверкающем на солнце любовался…
Мать замахала руками:
– Не верь! Никому не верь, Игорёшка! От лукавого этот перстень! Проклят он своими хозяевами… Много крови на нём. Зачем горе множить? Пусть лежит, где я его похоронила…
Лаврищев поднял брови:
– Так это, ма, не сказка? Не легенда о царском перстне?
Мать долго молчала, суша непрошенные слёзы. Потом вздохнула:
– Пойдём к отцу на кладбище сходим, помянем раба Божьего Илью… Придёт время – всё и ты узнаешь. Как было, как есть. А может, и как будет…
И снова поднесла платок к заплаканным глазам:
– Это надо же: на войне ни царапины не получил. А перстень тот, – будь он трижды проклят! – его в могилу свёл… Забудь о нём, сын. Забудь. Но помни об отце.
НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ