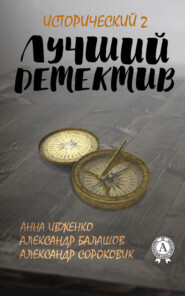По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Камни прошлого
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Тайно! – приложил палец к губам император. – Всё нужно сделать в абсолютной тайне от двора и света.
– Сочту за честь умереть за Ваше Величество, но поручение усердно исполню!..
– Ну-ну, голубчик. Умирать как раз и не обязательно. А вот насчёт усердия, это ты хорошо сказал. И пусть тебе о ней не даёт забыть моя императорская награда.
С этими словами Александр I вручил Эссену массивный золотой перстень с большим бриллиантом. На обратной стороне перстня было выгравировано: «УСЕРДИЕ ВСЁ ПРЕВОЗМОГАЕТ».
Граф Делегард писал в своих мемуарах, что в пакете были бумаги, которые делали его любимую внебрачную дочь Софью, богатейшей невестой России. По этим документам Софьи Нарышкиной отходили земли и пятнадцать деревень Курской, десять деревень с крепостными крестьянами Воронежской губерний, большой земельный надел в Малороссии. Софью, плод большой тайной любви Александра I и Марии Антоновны Нарышкиной Дмитрий Нарышкин, знавший, кто является настоящим отцом Софьи, лишил её наследства.
Здесь необходим небольшой исторический экскурс. Современники Александра I знали, как женщины обожали венценосного красавца. Семейная жизнь Александра сложилась несчастливо. Екатерина II, когда Александру едва минуло 16 лет, женила его на 14-летней баденской принцессе Луизе-Марии-Августе, при принятии православия нареченной Елизаветой. «Вот Амур и Психея!» – воскликнула Екатерина, любуясь этими мальчиком и девочкой, которые, думала она, идеально должны были подходить друг другу.
Случилось, однако, так, что они вовсе друг другу не подошли.
С юных лет Александр Павлович искал в женщинах забвения, отдыха от сомнений и противоречий, томивших его душу.
Мария Антоновна Нарышкина, урождённая княжна Святополк-Четвертинская, была его самой большой страстью. Некоторое время серьёзную конкуренцию Нарышкиной составляла графиня Бобринская. Но, в конце концов, всех соперниц победила красавица Мария Нарышкина. Ещё очень молодой её выдали замуж за любимца Александра I, за Дмитрия Нарышкина.
Как только государь увидел её в первый раз, он без памяти влюбился и быстро добился взаимности у Нарышкиной. Делегард писал, что в один прекрасный день, когда император был в отличном расположении духа, он назначил Нарышкина обергермейстером со словами, обращёнными к супруге обманутого мужа: «Я ему поставил рога, так пусть же он теперь заведует оленями».
Результатом этой связи были трое детей, из которых царь безумно любил дочь Софью. Дети все назывались Нарышкиными, несмотря на то, что муж Марии Антоновны отлично знал, что не он их отец.
Как-то император спросил Дмитрия Нарышкина:
– Как поживает твоя дочь Софья?
– Но, ваше величество, – ответил Нарышкин, ведь она вовсе не моя дочь, а ваша…
В другой раз царь осведомился у своего любимца о жене и его детях. Дмитрий Нарышкин цинично ответил:
– О каких детях Ваше Величество справляется? О моих или о Ваших?
Делегард утверждал, что Софью он «особенно не любил, вмещая на красавице своё унижение». Император, тяготившийся бременм власти и интригами светской жизни, считавшим себя виноватым в гибели своего отца (Делегрд утверждал, что Александр знал о готовившемся против Павла заговоре), после посещения святого старца Серафима Саровского и сделал все необходимые распоряжения в отношении своей любимой дочери Софьи.
Секретное поручение государя Павел Эссен выполнил без сучка и задоринки.
– Я вам не какой-нибудь капитан-исправник,[4 - Капитан-исправник – в дореволюционной России начальник полиции в уезде.] а гвардии капитан Измайловского полка! A la guerra com en la guerra,[5 - На войне как на войне (фр.).] – подкручивая кверху напомаженные усы и любуясь своим отражением в зеркале, говорил самому себе бравый капитан.
Разумеется, о секретной миссии бравого капитана мало кто знал. Подвиг гвардии капитана не был предан публичности. Но ведь и за секретные миссии во все времена щедро вознаграждали. Орденами. Или полным забвением ещё при жизни, если, конечно, исполнитель секретного поручения августейшей особы вообще оставался в живых.
Но молодой Эссен был из разряда тех оптимистов, которые на последний грош покупают себе большой кошелёк для будущего капитала. Капитан рассчитывал, если не на орден Святого Апостола Андрея Первозванного, то уж точно на орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия – наперсный крест на Георгиевской ленте. Или же на орден святой Анны. Знак этого выдающегося ордена был щедро украшен бриллиантами и он не раз снился ему в его вещих снах. Правда, приснившейся сияющий орден почему-то красовался не на его груди, а за семи замками лежал на дне кованого сундучка.
Мечты, мечты… Кого они питают? Мечтать о публичных почестях, восхищённых взглядах светских красавиц, гордиться каждой Анной на шее никому не возбраняется… В мечтах. А они не всегда предтеча реальных жизненных событий. Ни одной наградой, даже бросовой бронзовой медалькой за безупречную службу, гвардии капитан Измайловского полка до конца своих бренных дней пожалован так и не был. Зато первое время, пока гордыня окончательно не изгадила его и без того несносный характер, он довольно бодро, без видимых преград, шагал вверх по служебной лестнице. Ему самому было понятно, за какое усердие он получал всяческие привилегия и преференции от власти, но другие списывали его карьерный взлёт на счастливое расположение звёзд на небосводе. Раскрыть тайну поручения государя было равнозначно подписанию себе самому смертного приговора. Эссен из последних сил держал язык за зубами. И это превращало его жизнь в сущую пытку. Жизнь скрашивали только карьерные победы.
Уже через полгода после выполнения секретной миссии Павел Александрович был сделан обер-прокурором в синоде. Но ни дипломатический круг, ни монашеский не смогли укротить его необузданный характер. Всю жизнь Эссен обижался на судьбу-злодейку и считал себя обделённым заслуженной славой. Это, в конце концов, сделало его невыносимым для любого общества, в котором тайному герою приходилось вращаться.
За ссоры с архиереями он был отставлен, за пощёчину, которую он дал на официальном обеде у генерал-губернатора какому-то важному господину, ему был воспрещён въезд в Петербург. Он уехал в своё курское именье, находившееся на границе с Малороссией. Там мужики чуть не убили его за волокитство и свирепость. Спасением жизни Павел Александрович был обязан своему кучеру и быстрым лошадям.
После этого он поселился в Москве. Покинутый всеми, он жил один-одинёшенек в своём доме на Тверском бульваре, притеснял свою дворню и разорял мужиков. Завёл большую библиотеку и целый гарем, состоявший из курских красавиц, которых он заманил к себе из деревни, где находилось его именье. И то и другое он держал взаперти.
Лишённый всяких занятий и скрывая страшное самолюбие, доходившее до наивности, он скупал разные женские украшения и дорогие побрякушки, которые на свадьбу подарил своей избраннице, Наталье Константиновне Полянской, находившейся в дальнем родстве с московским генерал-губернатором Растопчиным.
Но и женившись, Павел Александрович, гвардии капитан в отставке не стал лучше. Недаром Козьма Прутков написал в любимом журнале Эссена, что не каждый капитан – исправник, как называлась судебная полицейская должность в царской России. Но, выйдя в отставку, он будто бы, сам того не замечая, превратился в капитана-исправника судебного ведомства. Эссен постоянно заводил ненужные тяжбы, которые, зная русское судопроизводство, вёл с особым ожесточением. Двадцать лет (!) длился у него процесс об аматиевской скрипке[6 - Аматиевская скрипка – одна из скрипок производства семьи знаменитого скрипичного мастера Амати.] и кончился тем, что он выиграл её.
Будучи в отставке, он, по газетам, приравнивая к себе повышение своих бывших сослуживцев, всюду покупал ордена, не торгуясь и не скупясь на эти, казалось бы, странные и весьма дорогие приобретения. Все ордена, изготовленные из драгметаллов и украшенные драгоценными каменьями, он складывал в специально изготовленную шкатулку-сейф, похожую на походный сундучок, как скорбное напоминание: вот ещё чем он мог быть изукрашен, не попади он тогда в опалу после пощёчины на обеде у генерал-губернатора.
Из справки Канцлера российских императорских и царских орденов Комитета о службе чинов гражданского ведомства и о наградах «О коллекции российских орденов П.А.Эссена от 17 марта 1889 г.»:
Мы, официальные лица, назначенные его превосходительством генералом Воронцовым-Дашковым в Комиссию по проведению инвентаризации, подтверждаем настоящим подписанием этого документа, что на 17 марта 1889 года предоставленная нам на проверку коллекция Эссена П.А. располагает:
1. Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия в виде наперсного креста на Георгиевской ленте.2. Орден Святого Апостола Андрея Первозванного: звезда ордена. 3.Орден Святой Великомученицы Екатерины: звезда и знаки ордена, усыпанные драгоценными камнями. 4. Орден Святого Равноапостольного князя Владимира 2 степени. 5.Орден Святой Анны 1 степени: знаки ордена с бриллиантовыми украшениями. 6. Орден Святого Станислава 1 степени: звезда ордена. 7. Орден Святого Иоанна Иерусалимского: знак ордена. А также шитые орденские звёзды периода первой половины 19 века.
Свою коллекцию орденов Павел Эссен хранил как зеницу ока. После смерти хозяина она по наследству перешла к его сыну Виктору. От того – к старшему сыну Виктора Николаю. Коллекция царских орденов самым чудесным образом пережила все русские революции, военный коммунизм, сталинскую индустриализацию и была, как говорилось в справке Госхрана, утрачена на Юге Курской области, в 1943 году, во время немецкой оккупации области, куда, пытаясь спасти уникальную коллекцию, вывезли её сотрудницы государственного Исторического музея.
Царский перстень с бриллиантом в 12 карат и надписью на обратной стороне кольца «Усердие всё превозмогает» в справках комиссии Воронцова-Дашкова, Госхрана СССР и Исторического музея, копии которых имелись в доме Семионовых-Эссенов, не упоминался.
ПЛОХ ТОТ СОЛДАТ, КОТОРЫЙ НЕ МЕЧТАЕТ СПАТЬ С ГЕНЕРАЛОМ
«Когда кажется, что весь мир настроен против тебя, помни, что самолёт взлетает против ветра»
(Генри Форд)
Игорь Лаврищев родился в семье простых колхозников в деревне Гуево. Село, пережив войну, послевоенные голодные годы, горбачёвскую перестройку и пореформенное время безвременья с «невозвратными потерями» дотянула до наших дней. Спряталось старинное сельцо, – или как говорили сами гуевцы, «заховалась», – среди гречишных полей и перелесков по дороге на древний городок Суджа, что на Курщине. От Гуево до Украины, её Сумской области, – рукой подать. Два народа перемешались в масштабах одной деревни, будто подтверждая слова Тараса Шевченко: «Чия правда, чия правда, чиi ми дiти?». Правда была одна на всех. И неправда – тоже.
До 9 класса смышленый, всё схватывающий буквально на лету Игорёк Лаврищев, учился в Гуевской восьмилетке, а потом мать определила старшего сына, как самого толкового и способного к учёбе, в Суджанскую школу-интернат. После окончания одиннадцатилетки, осенью того же года Игоря призвали на службу в армию. Отслужив в группе советских войск в Германии, где возил на новеньком ГАЗ-69 командира части, вернулся в Гуево, но шоферить в колхоз не пошёл – устроился в горотдел Суджанской милиции. Через год по совету начальника милиции он поступил на первый курс Всесоюзного заочного юридического института.
Потом, как уже знает мой читатель, на морском песочке произошёл случай, который свёл Игоря с Марией, была любовь, хлопоты новоиспечённых родственников по переводу Лаврищева в Москву, скромная свадьба и житьё-бытьё в элитной высотке на Котельнической Набережной, где ещё в начале пятидесятых обосновалась семья Семионовых-Эссенов.
Дом этот, стоящий в устье Яузы, при первом же знакомстве поразил воображение Лаврищева. А позже, от Сигизмунда Павловича, он узнал некоторые любопытнейшие подробности из его истории.
Оказывается, по замыслу самого Сталина, эта высотка должна была стать стратегическим объектом. Под землёй от неё предполагалось построить тоннель к Кремлю, Новоспасскому монастырю и через Москву-реку. Чтобы их грамотно прорыть, пришлось сдвинуть русло реки Яузы. Лишние свидетели этой стройки режиму были не нужны. А посему строили этот объект заключенные.
Сигизмунд Семионов был знаком с архитектором дома на Котельнической Набережной Дмитрием Чечулиным, мрачным, сосредоточенным в себе и не слишком контактном человеком. Архитектор жил на первом этаже дома на Набережной.
Как-то в Сандунах, подвыпивший архитектор, развязал язык и, роняя пьяные слёзы в бокал, пожаловался Сигизмунду Павловичу:
– Я душу в этот дом, Сигизмунд, вложил, а мне в эту душу плюнули! И ведь это – не простой дом, Сигизмунд! Этот дом может открывать ворота в прошлое или будущее, так он задуман. Как временной портал… И я добился этого чуда, а мне – в душу плюнули!
– Как, Дима, не понимаю…
– Очень смачно плюнули, Сигизмунд! – ответил Чечулин. – Вот ты кто? Ты – директор бани. Пусть бани элитной, исторической, можно сказать… Но – бани! А я – архитектор этого чудесного творения на Набережной! Ты живёшь на седьмом небе в трёхкомнатной квартире с панорамным видом на столицу, а мне выделили квартирку на первом этаже. Я зрю… смотрю то есть, на вечных бабок, которые сплетничают на лавочках у нашего подъезда. Вот как в душу, суки, плюнули!
Тогда этот рассказ тестя следователь пропустил мимо ушей. Да, иметь квартиру в этом доме, думал Лаврищев, всегда считалось роскошью, практически недоступной рядовому жителю столицы.
– Тебе Лаврищев, очень повезло, что ты будешь жить в этом доме, – тогда, при вселении Игоря Ильича на жилплощадь Семионовых-Эссенов, сказал маленький Юлик. Мальчика Лаврищев усыновил сразу же после женитьбы на Марии. И почти два десятилетия пытался сделать из пасынка, с которым то находил заветный контакт, то терял его в семейных ссорах и неурядицах, «настоящего мужчину». Лаврищев заставлял Юлика делать зарядку с трёхкилограммовыми гантелями, обливаться холодной водой из ведра на даче, брал с собой на футбол и хоккей (когда, разумеется его и пасынка отпускала на «спортивные и прочие бесполезные мероприятие» педантичная[7 - Педантичная – здесь: требующая буквального и слепого выполнения своих указаний.] Мария Сигизмундовна. С десяти лет он буквально за руку таскал Юлиана на рыбалку с ночёвкой в палатке, с ужином под звёздным небом у ночного костра. Потом стал брать на охоту на зайца и кабана. (Следователь был заядлым охотником и охотником, надо сказать, удачливым).
Юлиан воспринимал все эти педагогические приёмы отчима как насилие над его свободной личностью, созданной для счастья и наслаждений. На охоте он быстро уставал, жаловался Лаврищеву на несуществующие боли, а по приезде домой показывал матери старый мозоль, выдавая их за «стёртые в кровь ноги», нарочно кашлял и чихал, кивая на «подхваченную на охоте или рыбалке простуду».
Правда, он научился неплохо стрелять. И с малых лет любил стрелять по банкам и пустым бутылкам. Лаврищев доверял ему оружие, даже купил тульскую одностволку – специально для пасынка. Но однажды, когда повзрослевший Юлиан «понарошку» прицелился в Игоря Ильича, а спустил курок «взаправду» (потом убедительно клялся, что нечаянно), Лаврищев запер одностволку в свой железный сейф для охотничьего оружия и больше никогда не доверял Юлиану оружия.
– Сочту за честь умереть за Ваше Величество, но поручение усердно исполню!..
– Ну-ну, голубчик. Умирать как раз и не обязательно. А вот насчёт усердия, это ты хорошо сказал. И пусть тебе о ней не даёт забыть моя императорская награда.
С этими словами Александр I вручил Эссену массивный золотой перстень с большим бриллиантом. На обратной стороне перстня было выгравировано: «УСЕРДИЕ ВСЁ ПРЕВОЗМОГАЕТ».
Граф Делегард писал в своих мемуарах, что в пакете были бумаги, которые делали его любимую внебрачную дочь Софью, богатейшей невестой России. По этим документам Софьи Нарышкиной отходили земли и пятнадцать деревень Курской, десять деревень с крепостными крестьянами Воронежской губерний, большой земельный надел в Малороссии. Софью, плод большой тайной любви Александра I и Марии Антоновны Нарышкиной Дмитрий Нарышкин, знавший, кто является настоящим отцом Софьи, лишил её наследства.
Здесь необходим небольшой исторический экскурс. Современники Александра I знали, как женщины обожали венценосного красавца. Семейная жизнь Александра сложилась несчастливо. Екатерина II, когда Александру едва минуло 16 лет, женила его на 14-летней баденской принцессе Луизе-Марии-Августе, при принятии православия нареченной Елизаветой. «Вот Амур и Психея!» – воскликнула Екатерина, любуясь этими мальчиком и девочкой, которые, думала она, идеально должны были подходить друг другу.
Случилось, однако, так, что они вовсе друг другу не подошли.
С юных лет Александр Павлович искал в женщинах забвения, отдыха от сомнений и противоречий, томивших его душу.
Мария Антоновна Нарышкина, урождённая княжна Святополк-Четвертинская, была его самой большой страстью. Некоторое время серьёзную конкуренцию Нарышкиной составляла графиня Бобринская. Но, в конце концов, всех соперниц победила красавица Мария Нарышкина. Ещё очень молодой её выдали замуж за любимца Александра I, за Дмитрия Нарышкина.
Как только государь увидел её в первый раз, он без памяти влюбился и быстро добился взаимности у Нарышкиной. Делегард писал, что в один прекрасный день, когда император был в отличном расположении духа, он назначил Нарышкина обергермейстером со словами, обращёнными к супруге обманутого мужа: «Я ему поставил рога, так пусть же он теперь заведует оленями».
Результатом этой связи были трое детей, из которых царь безумно любил дочь Софью. Дети все назывались Нарышкиными, несмотря на то, что муж Марии Антоновны отлично знал, что не он их отец.
Как-то император спросил Дмитрия Нарышкина:
– Как поживает твоя дочь Софья?
– Но, ваше величество, – ответил Нарышкин, ведь она вовсе не моя дочь, а ваша…
В другой раз царь осведомился у своего любимца о жене и его детях. Дмитрий Нарышкин цинично ответил:
– О каких детях Ваше Величество справляется? О моих или о Ваших?
Делегард утверждал, что Софью он «особенно не любил, вмещая на красавице своё унижение». Император, тяготившийся бременм власти и интригами светской жизни, считавшим себя виноватым в гибели своего отца (Делегрд утверждал, что Александр знал о готовившемся против Павла заговоре), после посещения святого старца Серафима Саровского и сделал все необходимые распоряжения в отношении своей любимой дочери Софьи.
Секретное поручение государя Павел Эссен выполнил без сучка и задоринки.
– Я вам не какой-нибудь капитан-исправник,[4 - Капитан-исправник – в дореволюционной России начальник полиции в уезде.] а гвардии капитан Измайловского полка! A la guerra com en la guerra,[5 - На войне как на войне (фр.).] – подкручивая кверху напомаженные усы и любуясь своим отражением в зеркале, говорил самому себе бравый капитан.
Разумеется, о секретной миссии бравого капитана мало кто знал. Подвиг гвардии капитана не был предан публичности. Но ведь и за секретные миссии во все времена щедро вознаграждали. Орденами. Или полным забвением ещё при жизни, если, конечно, исполнитель секретного поручения августейшей особы вообще оставался в живых.
Но молодой Эссен был из разряда тех оптимистов, которые на последний грош покупают себе большой кошелёк для будущего капитала. Капитан рассчитывал, если не на орден Святого Апостола Андрея Первозванного, то уж точно на орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия – наперсный крест на Георгиевской ленте. Или же на орден святой Анны. Знак этого выдающегося ордена был щедро украшен бриллиантами и он не раз снился ему в его вещих снах. Правда, приснившейся сияющий орден почему-то красовался не на его груди, а за семи замками лежал на дне кованого сундучка.
Мечты, мечты… Кого они питают? Мечтать о публичных почестях, восхищённых взглядах светских красавиц, гордиться каждой Анной на шее никому не возбраняется… В мечтах. А они не всегда предтеча реальных жизненных событий. Ни одной наградой, даже бросовой бронзовой медалькой за безупречную службу, гвардии капитан Измайловского полка до конца своих бренных дней пожалован так и не был. Зато первое время, пока гордыня окончательно не изгадила его и без того несносный характер, он довольно бодро, без видимых преград, шагал вверх по служебной лестнице. Ему самому было понятно, за какое усердие он получал всяческие привилегия и преференции от власти, но другие списывали его карьерный взлёт на счастливое расположение звёзд на небосводе. Раскрыть тайну поручения государя было равнозначно подписанию себе самому смертного приговора. Эссен из последних сил держал язык за зубами. И это превращало его жизнь в сущую пытку. Жизнь скрашивали только карьерные победы.
Уже через полгода после выполнения секретной миссии Павел Александрович был сделан обер-прокурором в синоде. Но ни дипломатический круг, ни монашеский не смогли укротить его необузданный характер. Всю жизнь Эссен обижался на судьбу-злодейку и считал себя обделённым заслуженной славой. Это, в конце концов, сделало его невыносимым для любого общества, в котором тайному герою приходилось вращаться.
За ссоры с архиереями он был отставлен, за пощёчину, которую он дал на официальном обеде у генерал-губернатора какому-то важному господину, ему был воспрещён въезд в Петербург. Он уехал в своё курское именье, находившееся на границе с Малороссией. Там мужики чуть не убили его за волокитство и свирепость. Спасением жизни Павел Александрович был обязан своему кучеру и быстрым лошадям.
После этого он поселился в Москве. Покинутый всеми, он жил один-одинёшенек в своём доме на Тверском бульваре, притеснял свою дворню и разорял мужиков. Завёл большую библиотеку и целый гарем, состоявший из курских красавиц, которых он заманил к себе из деревни, где находилось его именье. И то и другое он держал взаперти.
Лишённый всяких занятий и скрывая страшное самолюбие, доходившее до наивности, он скупал разные женские украшения и дорогие побрякушки, которые на свадьбу подарил своей избраннице, Наталье Константиновне Полянской, находившейся в дальнем родстве с московским генерал-губернатором Растопчиным.
Но и женившись, Павел Александрович, гвардии капитан в отставке не стал лучше. Недаром Козьма Прутков написал в любимом журнале Эссена, что не каждый капитан – исправник, как называлась судебная полицейская должность в царской России. Но, выйдя в отставку, он будто бы, сам того не замечая, превратился в капитана-исправника судебного ведомства. Эссен постоянно заводил ненужные тяжбы, которые, зная русское судопроизводство, вёл с особым ожесточением. Двадцать лет (!) длился у него процесс об аматиевской скрипке[6 - Аматиевская скрипка – одна из скрипок производства семьи знаменитого скрипичного мастера Амати.] и кончился тем, что он выиграл её.
Будучи в отставке, он, по газетам, приравнивая к себе повышение своих бывших сослуживцев, всюду покупал ордена, не торгуясь и не скупясь на эти, казалось бы, странные и весьма дорогие приобретения. Все ордена, изготовленные из драгметаллов и украшенные драгоценными каменьями, он складывал в специально изготовленную шкатулку-сейф, похожую на походный сундучок, как скорбное напоминание: вот ещё чем он мог быть изукрашен, не попади он тогда в опалу после пощёчины на обеде у генерал-губернатора.
Из справки Канцлера российских императорских и царских орденов Комитета о службе чинов гражданского ведомства и о наградах «О коллекции российских орденов П.А.Эссена от 17 марта 1889 г.»:
Мы, официальные лица, назначенные его превосходительством генералом Воронцовым-Дашковым в Комиссию по проведению инвентаризации, подтверждаем настоящим подписанием этого документа, что на 17 марта 1889 года предоставленная нам на проверку коллекция Эссена П.А. располагает:
1. Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия в виде наперсного креста на Георгиевской ленте.2. Орден Святого Апостола Андрея Первозванного: звезда ордена. 3.Орден Святой Великомученицы Екатерины: звезда и знаки ордена, усыпанные драгоценными камнями. 4. Орден Святого Равноапостольного князя Владимира 2 степени. 5.Орден Святой Анны 1 степени: знаки ордена с бриллиантовыми украшениями. 6. Орден Святого Станислава 1 степени: звезда ордена. 7. Орден Святого Иоанна Иерусалимского: знак ордена. А также шитые орденские звёзды периода первой половины 19 века.
Свою коллекцию орденов Павел Эссен хранил как зеницу ока. После смерти хозяина она по наследству перешла к его сыну Виктору. От того – к старшему сыну Виктора Николаю. Коллекция царских орденов самым чудесным образом пережила все русские революции, военный коммунизм, сталинскую индустриализацию и была, как говорилось в справке Госхрана, утрачена на Юге Курской области, в 1943 году, во время немецкой оккупации области, куда, пытаясь спасти уникальную коллекцию, вывезли её сотрудницы государственного Исторического музея.
Царский перстень с бриллиантом в 12 карат и надписью на обратной стороне кольца «Усердие всё превозмогает» в справках комиссии Воронцова-Дашкова, Госхрана СССР и Исторического музея, копии которых имелись в доме Семионовых-Эссенов, не упоминался.
ПЛОХ ТОТ СОЛДАТ, КОТОРЫЙ НЕ МЕЧТАЕТ СПАТЬ С ГЕНЕРАЛОМ
«Когда кажется, что весь мир настроен против тебя, помни, что самолёт взлетает против ветра»
(Генри Форд)
Игорь Лаврищев родился в семье простых колхозников в деревне Гуево. Село, пережив войну, послевоенные голодные годы, горбачёвскую перестройку и пореформенное время безвременья с «невозвратными потерями» дотянула до наших дней. Спряталось старинное сельцо, – или как говорили сами гуевцы, «заховалась», – среди гречишных полей и перелесков по дороге на древний городок Суджа, что на Курщине. От Гуево до Украины, её Сумской области, – рукой подать. Два народа перемешались в масштабах одной деревни, будто подтверждая слова Тараса Шевченко: «Чия правда, чия правда, чиi ми дiти?». Правда была одна на всех. И неправда – тоже.
До 9 класса смышленый, всё схватывающий буквально на лету Игорёк Лаврищев, учился в Гуевской восьмилетке, а потом мать определила старшего сына, как самого толкового и способного к учёбе, в Суджанскую школу-интернат. После окончания одиннадцатилетки, осенью того же года Игоря призвали на службу в армию. Отслужив в группе советских войск в Германии, где возил на новеньком ГАЗ-69 командира части, вернулся в Гуево, но шоферить в колхоз не пошёл – устроился в горотдел Суджанской милиции. Через год по совету начальника милиции он поступил на первый курс Всесоюзного заочного юридического института.
Потом, как уже знает мой читатель, на морском песочке произошёл случай, который свёл Игоря с Марией, была любовь, хлопоты новоиспечённых родственников по переводу Лаврищева в Москву, скромная свадьба и житьё-бытьё в элитной высотке на Котельнической Набережной, где ещё в начале пятидесятых обосновалась семья Семионовых-Эссенов.
Дом этот, стоящий в устье Яузы, при первом же знакомстве поразил воображение Лаврищева. А позже, от Сигизмунда Павловича, он узнал некоторые любопытнейшие подробности из его истории.
Оказывается, по замыслу самого Сталина, эта высотка должна была стать стратегическим объектом. Под землёй от неё предполагалось построить тоннель к Кремлю, Новоспасскому монастырю и через Москву-реку. Чтобы их грамотно прорыть, пришлось сдвинуть русло реки Яузы. Лишние свидетели этой стройки режиму были не нужны. А посему строили этот объект заключенные.
Сигизмунд Семионов был знаком с архитектором дома на Котельнической Набережной Дмитрием Чечулиным, мрачным, сосредоточенным в себе и не слишком контактном человеком. Архитектор жил на первом этаже дома на Набережной.
Как-то в Сандунах, подвыпивший архитектор, развязал язык и, роняя пьяные слёзы в бокал, пожаловался Сигизмунду Павловичу:
– Я душу в этот дом, Сигизмунд, вложил, а мне в эту душу плюнули! И ведь это – не простой дом, Сигизмунд! Этот дом может открывать ворота в прошлое или будущее, так он задуман. Как временной портал… И я добился этого чуда, а мне – в душу плюнули!
– Как, Дима, не понимаю…
– Очень смачно плюнули, Сигизмунд! – ответил Чечулин. – Вот ты кто? Ты – директор бани. Пусть бани элитной, исторической, можно сказать… Но – бани! А я – архитектор этого чудесного творения на Набережной! Ты живёшь на седьмом небе в трёхкомнатной квартире с панорамным видом на столицу, а мне выделили квартирку на первом этаже. Я зрю… смотрю то есть, на вечных бабок, которые сплетничают на лавочках у нашего подъезда. Вот как в душу, суки, плюнули!
Тогда этот рассказ тестя следователь пропустил мимо ушей. Да, иметь квартиру в этом доме, думал Лаврищев, всегда считалось роскошью, практически недоступной рядовому жителю столицы.
– Тебе Лаврищев, очень повезло, что ты будешь жить в этом доме, – тогда, при вселении Игоря Ильича на жилплощадь Семионовых-Эссенов, сказал маленький Юлик. Мальчика Лаврищев усыновил сразу же после женитьбы на Марии. И почти два десятилетия пытался сделать из пасынка, с которым то находил заветный контакт, то терял его в семейных ссорах и неурядицах, «настоящего мужчину». Лаврищев заставлял Юлика делать зарядку с трёхкилограммовыми гантелями, обливаться холодной водой из ведра на даче, брал с собой на футбол и хоккей (когда, разумеется его и пасынка отпускала на «спортивные и прочие бесполезные мероприятие» педантичная[7 - Педантичная – здесь: требующая буквального и слепого выполнения своих указаний.] Мария Сигизмундовна. С десяти лет он буквально за руку таскал Юлиана на рыбалку с ночёвкой в палатке, с ужином под звёздным небом у ночного костра. Потом стал брать на охоту на зайца и кабана. (Следователь был заядлым охотником и охотником, надо сказать, удачливым).
Юлиан воспринимал все эти педагогические приёмы отчима как насилие над его свободной личностью, созданной для счастья и наслаждений. На охоте он быстро уставал, жаловался Лаврищеву на несуществующие боли, а по приезде домой показывал матери старый мозоль, выдавая их за «стёртые в кровь ноги», нарочно кашлял и чихал, кивая на «подхваченную на охоте или рыбалке простуду».
Правда, он научился неплохо стрелять. И с малых лет любил стрелять по банкам и пустым бутылкам. Лаврищев доверял ему оружие, даже купил тульскую одностволку – специально для пасынка. Но однажды, когда повзрослевший Юлиан «понарошку» прицелился в Игоря Ильича, а спустил курок «взаправду» (потом убедительно клялся, что нечаянно), Лаврищев запер одностволку в свой железный сейф для охотничьего оружия и больше никогда не доверял Юлиану оружия.