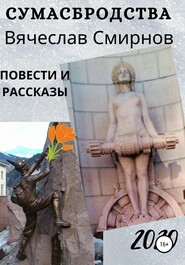По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Инженер и далее. Повести и рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Из научного сотрудника лаборатории Смирнов два раза в неделю становился старшим преподавателем, по праву почасового совместительства на кафедре Детали машин. Заведовал кафедрой Доцент Ивановский – человек преклонных лет, добродушный, спокойный с мощными надбровьями и густыми длинными, косматыми нависающими на глаза бровями, отчего казался мрачным и нелюдимым. Преподавал Смирнов в группе вечерников электроэнергетического факультета, будущим специалистам по электрическим машинам. Многие из студентов работали на Рижском электромашиностроительном заводе, были уже и в годах. Одним из них был заместитель секретаря комитета профсоюза завода РЭЗ, Олег Анфимов. О его должности в заводе Смирнов узнал от своей матери, Анны Ивановны, которая работала на РЭЗ контролером ОТК. Она рассказывала ему о визитах в профком и к Анфимову, просьбах выделить квартиру в строящемся доме, ибо жила вместе с сыном в одной маленькой комнате общежития. Однако положительного решения так и не было принято, и они продолжали жить там же. Ведя лекции и практические занятия, Смирнов поглядывал с интересом на Олега. Вызывал его к доске решать задачи, задавал другим и ему вопросы при опросе в начале семинара. Олег неплохо разбирался в темах по деталям машин. В зимнюю сессию группа сдавала экзамен и завершала изучение курса деталей машин. Отвечал Олег по трем вопросам в среднем неплохо, задачку решил не совсем верно, и Смирнов внутренне взвешивал: –Что же ставить? „Хорошо” или “удовлетворительно”?– И среди этих раздумий Смирнов вдруг посмотрел на Олега как на руководителя профкома, как на властного человека, требовательного к людям, стремившегося принимать решения в интересах завода. И следуя раздумьям, вошел в ответственную роль лица в области образования, и решительно записал в зачетку оценку „удовлетворительно”. Впоследствии Анфимов быстро продвигался по службе, стал председателем профкома, а потом и директором завода. Недолго пробыв в этой должности, был призван в Москву и возглавил Министерство электротехнической промышленности СССР, оставаясь в этой должности до распада Союза.
Работа с радиоактивными веществами была довольно трудоемкой и напряженной. Требовала большого внимания, тщательности и чистоты из-за опасности облучения. Владимир Андреевич наверно удесятерил требования к чистоте в лаборатории по сравнению с корабельными. Относился к чистоте ревностно и хотел от сухопутного сотрудника того же, что и от матроса. Требования его были объяснимы и в основном справедливы, но трудно исполнимы. Возникли трения с Смирновым. Вольнолюбивый характер Смирнова подвергся испытанию и воспринял наставления Владимира Андреевича по наведению глянца вокруг зубчатого стенда ветошью как подавление его личности. Смирнов не смог подчиниться и исполнять требования Владимира Андреевича, и принял решение уйти из лаборатории.
На лагерных сборах офицеров запаса в Гарциемсе, под Ригой, Смирнов познакомился с инженером с цементного завода, Игорем Бакалеенко. Запасники, как принято, рассказывали о себе. Так и Смирнов рассказал Игорю о работе в лаборатории, о научном руководителе. Походило, что Бакалеенко заинтересовался и, пожалуй, решил перейти на работу в лабораторию. И вот, в начале осени, Смирнов представил его Владимиру Андреевичу. Состоялся долгий разговор, и Игорь стал сотрудником лаборатории.
После увольнения из лаборатории Смирнов, для уточнения вопросов по расписанию занятий со студентами пришел к заведующему кафедрой Ивановскому. Тот встретил его со смущенным видом:
– Понимаете, к сожалению, я не смогу дать вам часы со студентами–вечерниками. Владимир Андреевич рекомендовал не принимать вас.– Это известие очень огорчило Смирнова. При скромной зарплате м.н.с. кафедра давала ему хоть и маленький, но все же приработок. И вот по рекомендации Владимира Андреевича он его лишился. – Чем же он так досадил ему?– задумался Смирнов. Но не нашел ответа. Вскоре начал работать на Рижском вагоностроительном заводе.
В лаборатории Владимира Андреевича перебывали многие сотрудники и аспирант, которые вели под его руководством работы в различных направлениях по вопросам износостойкости зубчатых передач, цепных передач, цилиндропоршневой группы двигателей. Игорь Бакалеенко и Владимир Стреляев, защитили кандидатские диссертации в Риге, Валентина Маркитанова и Лиесма Свикке в Москве, Альберт Саблин в Минске. Были и другие соискатели этой ученой степени, но цели не достигли. Сам Владимир Андреевич работал над докторской диссертацией и готовился к предварительной защите в институте Машиноведения, в Москве. Его заслушали, сделали несколько замечаний и пожеланий, но таких, которые потребовали очень большой работы, и отодвинули завершение докторской диссертации на неопределенный срок.
В октябре 1977 г. Владимир Андреевич позвонил Смирнову и предложил встретиться. Встреча состоялась после пятнадцати лет расставания у заводской проходной. Встретились, и Владимир Андреевич подарил Смирнову свой труд с дарственной надписью. Это была изданная в 1977 году в редакции „Машиностроение” монография „Повышение износостойкости зубчатых передач”, которая собственно содержала основное его докторской диссертации. Смирнов выразил свое восхищение большой работой Владимира Андреевича, поблагодарил его за подарок, пожелал скорейшей защиты докторской диссертации. В это время Смирнов работал на Рижском вагонзаводе и завершал работу над своей кандидатской диссертацией. Владимир Андреевич, конечно, знал об этом, мог читать и его публикации во Всесоюзном журнале „Вестник машиностроения”, хорошо знал его научного руководителя. Именно тот и слушал предварительную защиту Владимира Андреевича, активно дискутировал с ним, а при очередном приезде Смирнова в Москву прокомментировал предзащиту. Говоря добрые пожелания, Смирнов испытывал чувство некоторой жалости к автору, зная, что этот большой двадцатилетний ученый труд теперь уже запоздал, чтобы быть принятым как докторская диссертация. По своему характеру это были экспериментальные исследования его и аспирантов, актуальные для кандидатских диссертаций, тогда как уровень докторской требовал и теории. Но Смирнов не обезнадежил автора, а напротив –выразил уверенность, что скоро будет поздравлять Владимира Андреевича с защитой докторской, и вернулся продолжить эксперименты на своем роликовом стенде.
Экспериментальную часть диссертации Смирнов выполнял на высокоскоростном роликовом стенде, спроектированном самим и под его руководством, по идее московского научного руководителя Николая Харитоновича, и изготовленном на Рижском вагонзаводе. Исследовал заедание и износ тяговой зубчатой передачи электропоезда. Разработал методики расчета их на износ заедание.
Готовил стенд к испытаниям и эксперименты Смирнов проводил самостоятельно. При высоких скоростях стенд взвывал, покрывая звуки других работавших стендов. Когда суммарная скорости качения на верхнем и нижнем роликах достигала 100 м/сек, люди не выдерживали этого звучания и покидали корпус, проходившие старались обойти стенд стороной. За пультом управления, рукоятками и тумблерами оставался один Смирнов. После остановки стенда ему казалось, что кончился авиационный налет с артиллерийским обстрелом. В испытаниях на заедание температура роликов повышалась до 1200–1500 гр.С,, масло испарялось, появлялся дым из картера.
Дымит – добился заедания. Температтура в контакте роликов 1200 гр. С.
На стенде также проводил эксперименты по исследованию толщины масляной пленки в контакте другой аспирант Николая Харитоновича – Георгий Туманишвили из Тбилиси. Георгий (Надари) приехал из Москвы в Ригу с электронщиком Виктором Михайловичем, консультантом Всесоюзного журнала „Радио”. Виктор в возрасте под шестьдесят, с полной потерей волос и остатками зубов, натерпевшийся многого от сложной предвоенной и военной жизни. Перед самым началом ВОВ он работал авиационным инструктором. Во время перерыва в курилке коллеги обсуждали жизненные вопросы страны. По поводу некоего события и одного высокого действующего лица Виктор горячо прокомментировал:
Подготовка эксперимента. Слава «швец и жнец и на дуде игрец»
Вот он – великий (4х1,5х1,6 м) и могучий (4х1,5х1,6 м) и могучий (4х1,5х1,6 мб 10 000 об/мин) роликовый стенд
В Риге Надари измерил толщину масляной пленки (0,5 мкм) в контакте роликов, о чем рассказал в Москве и Тбилиси
– Я бы его за это к стенке!– И этой же ночью в квартиру позвонили, вошли двое в черных плащах и на черном „Воронке „ он был доставлен на Лубянку. Утром был допрошен по поводу высказываний и помещен в одиночную камеру. Правда, дали книжку – “История ВКПб” для внимательного изучения, сказав, что в их библиотеке много книжек на большие сроки, изучишь – получишь другую. Виктор Михайлович к концу дня постучал в дверь камеры, подошел охранник:
– Что стучишь?
– Закончил книжку, дайте другую.
– Тебе дали эту на неделю, жди. – и грохнул дверью. Виктор стал стучать снова, никто не подходит. Тогда стал барабанить в дверь кулаками и бить ногами. Вошли двое, набросились на него с кулаками, он стал отвечать, тогда они выбежали и привели пятерых, которые избили его до потери сознания. На следующий день Виктора Михайловича поставили в каменный колодец площадью один на один метр, с потолка которого монотонно падали капли воды. Они попадали то в голову, то в плечи. Уклониться от них было невозможно. Лечь он тоже не мог. Итак, день–ночь–день. В глазок заглядывает охранник:
– Ты еще не упал, еще живой. Ну, постой, постой.– И пытка продолжалась. После Лубянки он оказался в одном из лагерей ГУЛАГа и провел в нем полтора года. Положение на фронте усложнялось, авиация понесла большие потери. По лагерям стали собирать специалистов. Виктора Михайловича, как авиа инструктора, выпустили и он стал обучать молодых летчиков в учебном полку. Появились новые самолеты – истребители–штурмовики ЛА или ЛИ. На обучение прибыл сын Сталина, Василий, командир авиаполка полка. Василий прошел обучение у Виктора Михайловича, и по окончании обучения тот взял его с собой в полк. Некоторое время Виктор Михайлович летал в паре с Василием Сталиным на охоту за немцами, прикрывая его с хвоста.
Василий Михайлович был всегда весел, задорен, светился беззубой улыбкой. В Ригу он ехал поездом в купе. Рассказал:
– Дорога до Риги длинная. Чтобы скоротать время взял две бутылки коньку. Вошел в купе. Никого нет, поставил бутылки на столик, на салфеточку. Стоят минералка и печенье железнодорожное. Сел, открыл бутылочку и понемногу потягиваю коньячок. Не кончилось и полбутылки, в купе заходит дамочка. Здоровается, но не по–русски. Помог ей разместить чемодан. Оказалось – югославка, певица, лет тридцати пяти, едет в Ригу с концертом. По–русски говорит более или менее, разговорились, посмеялись. Заказал в ресторане еще бутылочку коньяка и горячее себе и ей, пирожные, кофе. Так и подошел вечер. И расставаться нам на ночь совсем было не по силам. Очаровательная девушка, не смотри, что югославка.
Надари с Виктором Михайловичем приходилось эксперимент готовить днем, а вести его ночами когда другие установки экспериментального корпуса института Вагоностроения, в котором стоял роликовый стенд, не работали. Велись измерения толщин масляной пленки в нагруженном контакте при качении роликов со скольжением. Толщины пленок составляли от нескольких до десяти микрон (1 микрон=1/1000 мм). Виктор Михайлович не изменил своего пристрастия и, покидая корпус утром, возле стенда лежала пустая бутылка из–под водки. Эксперименты за полгода были успешно завершены, и Надари защитил диссертацию. Смирнов на банкете у Надари в “Национале”, в Москве, был, вино пил, мороженое по усам текло, но и в рот попадало.
Деталировочные чертежи общего вида стенда с большой любовью вычерчивали две студентки – практикантки из Ленинградского ЛИИЖТа. Света любила не только деталировать, но и уважить разработчика. Слава отвечал ей взаимностью и теплом. Вечерами гуляли по Риге, и очень любили бывать в кафе во дворце первого президента Латвийской республики Карла Ульманиса. Оно было не внутри здания, а на веранде дворца, выходившей на Даугаву. Стена кафе из валунов возвышается над тротуаром на восемь метров.
Ах, как она деталировала!
Через вход– проем в крепостной стене толщиной в метр, по каменной лестнице выходили на пол из плоских валунов. Сквозь него росли древние липы, дубы и ясени. Стояло много столиков под тентами. Яства из буфета получали сами или через официанток. Играла магнитофонная музыка, был даже туалет. Кафе было всегда многолюдным. Сидеть за столиком, пить бальзам с кофе, лакомиться мороженым с открывающимся прекрасным видом на реку, вдыхать запах листвы июльских лип в цвету – о лучшем месте мечтать было просто невозможно. С чем-то подобным восхитительным Смирнов в одиночестве соприкоснулся в Ялте. Вблизи пляжа, над ним, на возвышении располагалось кафе с дощатым полом, под брезентовым тентом. Измученный за один час пляжным жаром, поглотив обещанную по радио порцию биологически допустимых тепловых доз, о чем на юрмальских пляжах не предупреждают, а может и не ведают, Смирнов поднимался в это кафе. Входя под тент и стены из виноградных лоз, чувствовал, как прохлада словно сбрасывает с его плеч тяжелый груз солнцепека. И вот в этом надпляжном кафе, таком далеком от мировых центров цивилизации, в меню он видит написанную химическим карандашом строчку, которая его очаровала: Кофе – глясе с мороженым, цена 30 копеек. Дородная буфетчица варила кофе и бросала в него шарик мороженого. Брал кофе, садился за столик, откуда было видно мерцающее солнечными бликами легкое волнение моря и лежбище изнывающих загорающих, закатывающих трусы повыше, входящих в воду, плещущихся на галечной мели и махающих в гребках руками вдалеке. В кафе он один. Раскрывал избранное И.А.Бунина и поглощал быстро новеллы, медленно глоточками попивая кофе с мороженым. Брал еще одну порцию кофе–глясе, посматривал на лежащих в усилившемся пекле, жар которого временами заносило и в тень кафе, легко и счастливо вздыхал, радуясь, что он в тени. Что стало с ялтинским кафе – не знает, а президентское в новой Республике приватизировали новые президенты, оставив прежним его посетителям высоко поднимать головы, поглядывая туда, куда они теперь не смогут войти.
В летний вечер, приехав в центр города после рабочего дня, Смирнов в ожидании кого-то из знакомых стоял на ступенях бывшего православного Кафедрального собора, в котором теперь размещались планетарий и кафе. То ли благодаря нахождению кафе в соборе, то ли по каким-то другим причинам кафе очень ему нравилось, да и многим рижанам тоже. Оно было местом многих встреч и называлось в народе „У бога за пазухой”. По ступеням храма поднимались по летнему одетые люди. Другие на ступенях сидели. Интересно было наблюдать и проходящих по улице Ленина. Конечно, наибольшее внимание уделялось девушкам. Они напомнили ему довольно своеобразную историю, которая произошла с ним в кафе этого храма.
По звонку поднял телефонную трубку и услышал женский голос:
– Вы меня не знаете, ваш номер дала мне одна знакомая, имени которой я не буду называть. Она вас знает, и дала вам очень хорошую характеристику, и я решила позвонить вам.
– Слушаю вас, и что же?
– Я прошу вас встретиться со мною.
– Хорошо, почему бы не встретиться. Когда и где?
Такой случай представился ему впервые. В школьные годы по чьим-то рассказам такое случалось. Девушки звонили наобум, болтали, шутили, издевались, смеялись, а потом клали трубку. Мальчики тоже этим занимались. Договорились встретиться в планетарии, в кафе.
– Как я вас узнаю, – спросил Смирнов? –Опишите себя, пожалуйста.
– Не нужно, я вас видела, и дам знак.
До назначенного дня встречи и идя на нее, Слава фантазировал. Пытался по голосу и фразам представить себе ее. Но воображение рисовало девушку мечты, и хотелось, чтобы она оказалось такой или хотя бы близкой к этому образу. Подходя к планетарию, поднимаясь по ступеням и идя к каф, Слава почувствовал некоторую робость. Подбирал первую фразу к ней, когда подойдет. Думал, какое выражение лица принять – вопросительное, гордое, независимое полное достоинства. Вошел, стал осматривать сидящих за столиками и в очереди к буфетчице. С большим сожаленьем констатировал, что девушки его мечты нет, и собрался было встать в очередь к буфету, как вдруг от дальнего столика поднялась женщина и подняла призывно руку. Мгновенно оценил отрицательно, и начался лихорадочный просчет – уйти, сделав вид, что не заметил, или все же подойти, понимая, что в последний раз, и потерпеть. Подошел, стал беседовать, не подавая признаков неприязни, не выдавая уже принятого твердого решения. Выпили кофе, поговорили о погоде, работе и Слава, сославшись на домашние заботы простился. В дальнейшем, при случайных встречах в городе вначале признавался, а потом перестал.
Отвлекся Смирнов от этого воспоминания, и снова продолжил просеивать еще более уплотнившийся поток прохожих, как вдруг в поле его зрения появляется бывший коллега по лаборатории В.Гришко и лагерю офицерских сборов в Гарциемсе– Игорь Бакалеенко. Оба обрадовались встрече после нескольких лет. Виделись последний раз на банкете в ресторане „Астория” по случаю защиты Игорем диссертации, где были его научный руководитель – Владимир Андреевич, и будущий Смирнова – Николай Харитонович. Игорь работает на кафедре Технологии машиностроения, преподает, занимается немного научной работой по тематике экзоэмиссии металлов. Приобрел в Свердловске установку для экзоэмиссионных исследований. Работает под руководством научного руководителя из Свердловска. Исследование находится на начальном этапе, установка сложная и капризная, метод – тоже. Задумывается о прекращении этой работы. Не знает, чем заниматься дальше.
И вот, стоя на ступенях собора, Смирнов с болью в душе сказал Игорю Бакалеенко:
– Уйду с завода – ведь стенд не найдет никакого применения, его просто разрежут и выбросят. – И тут Бакалеенко предложил продать стенд Рижскому политехническому институту и поместить его в лаборатории Владимира Андреевича, из которой он также давно ушел.
Сделать это не просто, но он в хороших отношениях с деканом факультета и проректором по научной работе, и сможет обосновать целесообразность покупки с перспективой расширения тематики исследований лабораторией Владимира Андреевича. Сговор двух учеников Владимира Андреевича по захвату части лаборатории научного руководителя состоялся на ступеньках храма, а потом был закреплен возлияниями в кафе. По договору купли–продажи РПИ перечислил заводу 15000 руб. за стенд со всем оборудованием. Стоимость стенда оказалась эквивалентной стоимости почти трех автомобилей „Жигули”. Началась операция перевозке роликового стенда в лабораторию. Для перевозки хватило двух пятитонных грузовиков. Операция проводилась в большой тайне от завода. Организационно были преодолены многие сложности, особенно с приемом стенда в лаборатории, т.к. вносить его пришлось почти ручным способом через громадное витринное окно. Автокран мог только подвесить перед проемом тяжелые раму, трамвайные электродвигатели, шкафы импульсно–тиристорного регулирования В горизонтальном направлении перемещения велись только ломовой силой сотрудников лаборатории. Когда в заводе тайна вывоза роликового стенда была раскрыта, и об этом узнал главный конструктор Эдуард Калнин, он предпринял решительные шаги для возвращения стенда. Сел в свои “Жигули“, приехал из далекого края завода в заводоуправление, обежал всех высших руководителей, выясняя, кто и на каком основании посмел вывезти стенд без согласования с ним – ведь на нем велись работы его сотрудником Смирновым. Конструкторскому отделу по зарез нужен осциллограф, который входил в оборудование стенда и т.д.
Владимир Андреевич при выгрузке стенда не спустился со своего этажа и не стал наблюдать вероломство его ученика Бакалеенко и поругание своего достоинства, утвержденного двадцатью пятью годами создания лаборатории и наполнения ее техникой и сотрудниками. С этого дня, к сожалению, начался период молчаливого отторжения Владимира Андреевича от лаборатории и переход ее в руки Бакалеенко, хотя Бакалеенко и Смирнов в праздники и дни рождения поднимались к Владимиру
Андреевичу с букетами цветов и поздравлениями. Помощь в отторжении оказал и другой ученик Владимира Андреевича – Владимир Стреляев. Так повторилась еще раз (см.библейская) история предательства учителя учениками. Владимир Андреевич не был провидцем, и не мог знать, что с некогда новичком Бакалеенко пришло начало заката и краха его лаборатории – детища всей его инженерной жизни.
С переездом роликового стенда Смирнова вся деятельность лаборатории сосредоточилась на нем. Остальные испытательные стенды замерли, не работали – не было идей и заказов для их оживления. Владимир Андреевич, после предзащиты в ИМАШе, оставался в своем высоком „замке„, продолжая работать над докторской диссертацией, не опускаясь вниз, к своим некогда громко звучавшим орудиям главного калибра. Кафедра деталей машин, на которой теперь, после защиты диссертации, заметную роль играл Владимир Стреляев, отказала Владимиру Андреевичу в должности доцента. Решающим оказалось мнение его ученика Стреляева, который стал одним из “углов” факультетского треугольника (руководитель, парторг, профорг). Стреляев стал парторгом, был награжден орденом Трудового Красного знамени и приобрел очень большой вес, который использовал для вытеснения своего учителя с кафедры. Внутренними мотивами презрения учителя Стреляевым могли быть какое-нибудь острое словцо Владимира Андреевича и его подавляющее превосходство как преподавателя–лектора по курсу „Детали машин” и большого интеллектуала. Стреляев был единственным русским на кафедре и при поддержке остальных довольно слабых в сравнении с Владимиром Андреевичем лекторов безжалостно расправился с конкурентом в то время, когда Владимир Андреевич очень нуждался в месте на кафедре. Ведь не получила желаемого отзыва его работа в предзащите в Москве, в лабораторию ворвался Бакалеенко с невольным подельщиком Смирновым. Ученики – один, партиец и орденоносец на кафедре, другой в лаборатории, имевший сильную поддержку в институте, изворотливый, обложивший учителя вязкой осадой, оттесняли его тихим бесконечным приступом от дел, каждый со своей стороны. И надрыв произошел. Владимир Андреевич был сдвинут в должность научного сотрудника, а завлабом и научным руководителем стал Бакалеенко. И очень скоро Владимир Андреевич перешел работать в институт Вагоностроения, а оттуда эмигрировал за женой в Израиль, где написал стихотворение “Говорят: „Судьба”, с таким началом:
В песчаную даль палестинской земли
Балтийские ветры хохла занесли…
Смирнов начал работать на кафедре экономики старшим преподавателем, а потом стал доцентом. Его роликовый стенд занял комнату первого этажа на ул.Вальню, 10. Вместе со Смирновым и его стендом пришли в лабораторию заказчики, хоздоговорные работы с деньгами и продолжившееся сотрудничество с его научным руководителем, авторитет которого в масштабе страны был, несомненно, велик и способствовал всем успехам лаборатории Бакалеенко. Без его участия ни одна хоздоговорная работа лаборатории была бы немыслима. И все это лаборатория получила за пятнадцать тысяч рублей, уплаченных за роликовый стенд! Восклицательный знак стоит для привлечения внимания читателей, понимающих бизнес, в том числе и научный в рыночной экономике, где заказчик, готовый оплатить работу – это великое благо.
В лаборатории появились новые сотрудники и аспиранты у Бакалеенко. Он уделял им очень много времени, беседовал с каждым невероятно долго, и, на взгляд Смирнова невероятно нудно. Не в пример молниеносности бесед, советов и решений его научного руководителя. Одна из сотрудниц была принята как математик. Мира Гольденштейн была маленького роста, носила очки. Сидела за столом так, что видна была одна голова, а все остальное сползало куда–то под стол. Не трудно было заметить симпатии Бориса к ней. Мира однажды удивила Смирнова. Он выполнил большой литературный обзор зарубежных разработок и исследований высокотяговых масел (масел с повышенным коэффициентом трения). Работа велась по заказу одного из предприятий Министерства обороны, для изделий которого создавалось такое отечественное масло. Смирнов начал эту работу на РВЗ, и тоже по хоздоговору, проводя сравнительные испытания подобных масел, в том числе, американского масла. Теперь лаборатория сотрудничала с нефтеперерабатывающими предприятиями и организациями, синтезировавшими отечественные высокотяговые масла, и продолжила проведение их испытаний на роликовом стенде. Обзор Смирнов выполнил в рукописном виде и передал его Мире для печатанья. Мира долго скрывалась за машинкой и наконец, напечатала под копирку несколько экземпляров отчета. Смирнов, как автор, должен был вычитывать отчет, вписывать формулы. Эта работа всегда, естественно, ведется по рукописи, за которой Смирнов и протянул руку. Но Мира взглянула на Смирнова c удивлением и вопросом, прозвучавшим откуда–то из глубин кресла, из–за машинки и из–под стола:
–А зачем вам черновик?
Смирнов объяснил очевидное.
–У меня его нет.
–Как нет, а где же он? – спросил удивленный Смирнов.