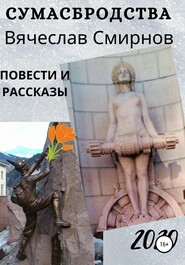По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Инженер и далее. Повести и рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
библиотеки, завод казался Смирнову еще более неприветливым, чем раньше. Желание покинуть его нарастало. Светлов, словно чувствуя настроение Смирнова после библиотеки, хмурился, рассматривая его чертежи. Чувствовал, что ему самому в библиотеку не ходить, что пути его со Смирновым начинают расходиться.
Конструкторы бюро были среднего возраста, один–два постарше. Мало кто из них бывал на каком–либо заводе. Светлов решил расширить их кругозор и немного развлечь, и организовал экскурсию на Рижский ликероводочный завод. Согласие было единодушным, прогулявших или опоздавших на работу в тот день не было. Экскурсанты прошли вдоль автоматических поточных линий в бутылочном звоне, восхитились показавшимся им высоким уровнем автоматизации производства водок, и в завершении экскурсии технолог пригласила их в лабораторию. На столе были расставлена всевозможная продукция завода и мензурки. Технолог предложила нам открывать на выбор любые виды продукции, выделив особо новый вид – „Лимонную горькую на коньяке”. Ее – то мы и исследовали до дна, да не одну и без закуски. Выходили из корпуса нестройной извивающейся и беспорядочной, неорганизованной толпой со смехом и шутками на винную тему. На проходной нас окинул понимающим взором охранник, привыкший регулярно видеть крепящихся деланно ровно идти работников после смены.
После экскурсии отношения со Светловым оставались по–прежнему не лучшими. И при первой возможности расстаться, когда его попросили выделить человека для работы в узком месте – в цехе, на участке шкафов для судовой электроаппаратуры, он не возражал. Так Смирнов стал помощником мастера в цехе. Началось общение с рабочими жестянщиками, сварщиками, резчиками на гильотинных ножницах. Выписывал наряды, распределял по работам, процентовал готовность ящиков, закрывал в конце месяцев наряды, участвовал в планерках у начальника цеха. В середине месяца привычной был диалог с жестянщиком выпивохой Микелисом, пропахшим дымом и водкой.
– Мастер, какая будет процентовка этого ящика?
– 60 %.
– Мастер, совсем мало получу, сделай больше.
– Куда уж больше, итак не остается денег на закрытие в конце месяца.
– Мастер, тебя не забуду.
– Хорошо, 70%, и ничего мне от тебя не надо. В конце месяца ведь получишь совсем мало, и выпить будет не на что.
– Ты прав, мастер, но сегодня сделай.
В цехе сошелся с другими молодым специалистами Сашей Федуном, Борей Эстеркиным и мастером Юрой Шалаенко. Люди в заводе сильно отличались от тех, кого он встречал на практике в Вагонзаводе. Были жестче, грубее, выглядели мрачными и унылыми. У Юры впечатление было ничуть не лучше. Оказалось, что все они приехали в Ригу из разных республик. В обед молодые специалисты уходили с территории, гуляли в соседнем парке, мечтали уйти с этого завода. Смирнов рассказывал им, каких прекрасных людей он встречал на Вагонзаводе. Вместе перебирали косточки обидчиков молодых специалистов – начальника цеха Каяндера, его заместителя Волкова и других. И вот Юра, в один из обеденных перерывов солнечного сентябрьского дня, на доске строительных лесов строящегося цеха, написал покаянное заявление. И знал же, что придется отрабатывать трехлетний срок, но тешил себя свободой на бумаге. Смирнов уговорил его повременить, не горячиться, не отдавать заявление начальнику цеха.
– Отдай мне на хранение, будет лежать в моей тумбочке– Заявление так и не было востребовано Юрой. К удивленью, пролежало, сохранилось до сегодняшнего дня, т.е. почти сорок пять лет, и стало документальным подтверждением наших искренних душевных терзаний тех лет.
Смирнову не всегда удавалось сесть за стол точно в восемь утра, за что получал замечания от своего начальника Светлова. Когда работал мастером в цехе, показался непокладистым и непослушным заместителю начальника цеха Волкову. Волков, похоже, не прошел курса управления персоналом. Вид имел жестокий, лицо в оспенных ямках, голос грубый. Сыпал нехорошими словами в сторону Смирнова по простейшей причине. Приехал в Ригу из Бердска. Не по нраву ему было ласковое обхождение с молодым специалистом. И когда потребовалась рекомендация Смирнову для месткома на получение квартиры, оказалось, что рано еще ему с мамой выделять квартиру, и отказали. Главный инженер сдержал другое данное им обещание при распределении. Коль не дали квартиры – разрешил уволиться до окончания срока отработки в три года. Расстался Смирнов с Юрой. Тот остался на заводе, а заявление дождалось своего часа и предстало перед вами, читатель.
Две недели Смирнов счастливо гулял по осенней Риге. Но потом решил устроиться на завод, и начал с известного ему вагоностроительного завода РВЗ, потом обошел еще несколько, но везде отказали – он молодой специалист. Его не имели права принять, т.к. он должен был отрабатывать три года на заводе, в который был направлен по распределению. Загрустил Смирнов, заскучал. Все товарищи при деле, работают, а он гуляет. Да и запаса денег никакого не осталось. Оказался на иждивении матери, как и в студенческое время. На душе стало неспокойно, даже тоскливо. Написал письмо в Москву, в Главк Судостроения с просьбой разрешить свободное трудоустройство. Начал настраиваться на долгое ожидание, но поиски места не прекращал. Побывал на Дизельном заводе, где начальником отдела кадров работал отец одноклассника Валерия, Василий Аркадьевич, у которых Смирнов много раз бывал. Их семья занимала большую трехкомнатную квартиру в доме постройки тридцатых годов двадцатого столетия. Василий Аркадьевич в школьные годы Смирнова работал директором хлебозавода в Риге. До этого служил в авиационном полку в звании подполковника. С восхищением вспоминал те годы. Рассказывал, как приспособился выносить авиационный спирт с аэродрома. Проходная – КПП была очень серьезным препятствием для всех, кто выходил или входил на летное поле и ангары технического обслуживания, и никакие уговоры и ссылки на день рождения или Новый год, или в связи с взятием
Праги на часовых не действовали:
– Не, нет и только нет. Никакого спирта, ничего не выносить за территорию.
– Тогда, – рассказывает Василий Аркадьевич, – я воспользовался книжкой “История ВКПб “. Изучил все страницы, а после изучения, зачем мне они? Вырезал в них по размеру фляги окно и стал укладывать в него тару. Проходил на поле, работал, подходил к заправщикам и заправлялся. Укладывал флягу в “Историю ВКПб” и преспокойно проходил КПП.
Мать Валерия не работала, занималась домом и двумя сыновьями. Смирнов бывал в их доме в будни и в праздничные дни, когда накрывался хороший стол. Мать и отец Валерия любили петь. Пели много, вдохновенно, в два голоса или сольно по очереди. Смирнов подтягивал понемногу, потихоньку. Пели, по–видимому, и старинные русские студенческие песни:
– На свете жил студент веселый. Любил он женщин, любил вино,
Но не любил он труд тяжелый, к монашкам лазал он в окно. и другую:
– В гареме нежится султан. Ему счастливый жребий дан
Он может девушек любить, хотел бы я султаном быть.
Но нет, он жалкий человек – вина не знает целый век.
Так запретил ему Коран – вот почему я не султан.
Любовь к песням и пенью входили в Славочку с детства. Песни под аккомпанемент гитары пела ему мама, Анна Ивановна. Пела красивым голосом, задушевно. Да и песни были красивые мелодичные, нравились Славочке. Многие из них он запомнил на всю жизнь и поет до сих пор. Мама напевала старинные русские романсы и цыганские песни. Звучали „Соколовский хор у Яра”, “…я выхожу одна на балкон…”, песни из репертуара знаменитой до войны цыганской певицы Ляли Черной. Так Смирнов и полюбил пенье и в компании, и для себя одного. Пел и дома в одиночестве, и в лесу, и в поле, и в банкетных компаниях без всякого стеснения, смело и с большим удовольствием.
Проходная Дизельного завода, РДЗ. Позвонил Василию Аркадьевичу, тот на проходную – и вот Смирнов у него в ОК. Вошел с большой надеждой. Каждый отказ усиливал чувство безнадежности и приводил в унынье. Теперь идет к хорошо знакомому человеку, почти другу. Но снова звучит:
– Не имею права, ты, Слава, молодой специалист, закон запрещает тебя принять. Жди ответа из главка твоего почтового ящика.
Ответа из главка судостроения все нет. Побывал и в отделе кадров завода РЭЗ, что напротив РДЗ. Доехал до далекого завода ВЭФ. И везде звучал тот же ответ, который услышал от Василия Аркадьевича. Иногда в ответах звучали интонации почти ужаса, мол, вы говорите о настолько опасном, грозящем тюрьмой деле.
И вот удача – проектная организация “Оргпроектцемент” московского Союзного подчинения, видимо, Главцемент не побоялась принять молодого специалиста. Так Смирнов снова стал работать конструктором в окружении далеко немолодых инженеров. Были и совсем старые. Унылые, грустные. – Почему они такие, – удивлялся Смирнов. Ведь имеют работу, получают зарплату. Побывали бы, как он, почти месяц безработными, были бы радостными, как он теперь, будучи принят в бюро. Не знали они русской пословицы: День меркнет ночью, человек – печалью и давали себя чувствовать пожилыми и печальными. Но вернувшись с обеда, как-то странно бодрились, даже, пожалуй, были веселы. Винный запах выдавал причину – не только закусили, но и выпили. Признавались, что без бокала шампанского не обедают.
Удалось Смирнову побывать и в командировке на Броценском цементном комбинате. Печь обжига сырья была бесконечно длинной, толстой и вращалась. От нее исходил жар. Ему же пришлось эскизировать вытяжное устройство рукавов, через которые подавался цемент в тарные мешки. Пришлось залезать на самый верх высоченной многорукавной башни, похожей на голову слона, с которой свисали несколько хоботов брезентовых рукавов – цементоводов. Под потолком цеха стояла жара, пот скоро появлялся на лице, на руках, заливал глаза, налипала цементная пыль. Закончив эскиз, слезал, отряхивался, отплевывался от набившейся и в рот, и в нос пыли – словно побывал в жарком бою.
Получил, наконец, долгожданное письмо из Москвы, из Госкомитета – разрешали свободно трудоустроиться. Вот это, такое простое по содержанию и на вид, письмо.
Вольная грамота
Но оно как в сказке, в которой Славочке на перекрестке трех дорог предстояло выбрать одну: “Налево пойдешь – счастье найдешь, направо пойдешь – смерть найдешь, …”, открывало Смирнову многие пути. Потому радость его была беспредельной. Наконец–то он свободен и может пойти в институт, в лабораторию, или на Вагонзавод. И вообще – куда угодно. Инженеры требовались почти везде. Страна в 1962 году была на подъеме.
Лаборатория
Памяти В. А. Гришко
После года работы по направлению конструктором и мастером цеха в номерном заводе молодой специалист получил право трудоустраиваться самостоятельно. Куда как более привлекательной ему казалась научно-исследовательская работа. Еще в восьмом классе в разговоре со школьным другом Олегом, когда они спрашивали друг друга – Кем бы ты хотел быть?– Олег сказал, что научным сотрудником. О такой работе или должности Слава услышал впервые. До этого мама, когда везла его в бричке в третий класс сельской школы, говорила:
– Закончишь, Славочка, школу, поступишь в институт и станешь инженером. – Никогда в школьные годы Слава не встречал ни научного сотрудника, ни инженера. В институтские годы побывал в научной лаборатории зубчатых передач, познакомился с ее руководителем Владимиром Андреевичем Гришко. Лаборатория понравилась и чем–то привлекла его.
Уйдя с завода, помня о его доброжелательном отношении к нему Гришко, Смирнов направился к нему. Лаборатория находилась в самом центре Риги, на улице Вальню, 10, которая заканчивалась через 200 метров от двери лаборатории, упираясь в Пороховую башню с увязшими в стене пушечными ядрами времен осады Риги Петром Первым. Владимир Андреевич встретил его, открыв тяжелую, в железных кованых цветах входную дверь, и повел по винтовым лестницам на четвертый этаж в свой кабинет. Кабинет оказался маленькой комнаткой под низким потолком, с одним невысоким узеньким окошком от пола, в которое проникало мало света, и потому всегда горели одна лампочка и настольная лампа. Торцом вплотную к окну стоял однотумбовый стол, стул хозяина и стул для посетителей. От двери, слева, располагалась полка для книг и документов лаборатории. Позднее Смирнов узнал, что там стояли и лежали многие папки с планами работы лаборатории на год, пятилетку и перспективу, программами вхождения в планы Министерства образования, Академии наук Союза и Госкомитета по науке Союза.
Заведующий лабораторией Износостойкости зубчатых передач (радиоизотопной) механического факультета Рижского политехнического института, к.т.н., Владимир Андреевич Гришко, имел представительную фигуру, довольно высокий рост, почти высокий, брюнет с вьющимися волосами, на крупном мясистом носу очки с толстыми стеклами. Поверх костюма, как и положено правилами санитарной радиационной безопасности, был одет в белый халат. Разговаривает, приблизив лицо к собеседнику, с придыханьем и с душою. Рассказал Смирнову о специфичной и опасной работе с радиоактивными изотопами, которые использовались при регистрации износа зубчатых колес, и согласился принять его старшим лаборантом. Смирнов освоил нужное из науки о изотопах, сдал экзамен Владимиру Андреевичу и был догружен обязанностями радиометриста лаборатории.
На втором этаже, в небольшой комнате, соседствовали большой квадратный стол и громадный эвольвентомер немецкой фирмы Цейсс для измерения эвольвенты зубчатого колеса. Число научных сотрудников не превышало числа сторон стола – больше посадить их было некуда. За столом, покрытым коричневым линолеумом, сидели четверо в белых халатах – Лиесма Свикке, Инесса Степанова, Юра Жуков и Слава Смирнов. Нельзя не упомянуть их вечной уборщицы Марты, вечной потому, что кто бы ни пришел работать в лабораторию, кто бы ни уволился, кто бы ни умер – всех она встречала по утрам и пережила. Места на столе только и хватало, что для книги и листа бумаги. Рядом стоял стол, на котором находилась защитная стенка, сложенная из свинцовых кирпичей с одним прозрачным кирпичом из свинцового стекла в центре. За этой стенкой можно было работать с радиоактивными металлами или жидкостями, манипулируя руками в резиновых свинцованных перчатках. На этом же этаже, через маленькую комнатку располагалось “сердце” лаборатории – зубчатый стенд, на котором проводились исследования износа зубчатых колес. Колеса были активированы в ядерном реакторе, работали в циркуляционной системе смазки. Детекторами их износа были счетчики радиоактивности Гейгера–Мюллера или сцинтилляционные, возле которых в медных трубопроводах пролетал масляный поток с радиоактивными частицами износа.
Иногда к их линолеумному столу подходил завхоз Сергей Михайлович Лютов – полковник артиллерии в отставке. Коренастый, добродушный, осанистый и степенный, чуть с сединой в негустых волосах, всегда с улыбкой и, как и все сотрудники, в белом халате.
– Ну, что, наука. Как дела, как пишется? Что-то ты Смирнов давно бумаги не просишь? Мало работаешь. Пиши, пиши больше– Смешил всех, и сам довольный шуткой с улыбкой и уходил. До отставки он служил в Управлении Главного штаба артиллерии, которое находилось в здании Адмиралтейства, в Ленинграде. С восхищением и уважением рассказывал о своем начальнике:
–Какой был столоначальник! Выдающийся был руководитель. Как он умел работать с входящими письмами! Талант, талантище! Всегда найдет самые убедительные причины отказать в исполнении им самим или отделом, или доказать, что к его отделу вопрос не имеет отношения и умело направить мысль вышестоящего на истинного исполнителя. Работать у него было легко.
Сергей Михайлович казался Смирнову очень пожилым, как всегда кажется молодому человеку тот, кто немного его старше. Так и Владимир Андреевич, думалось, мужчина очень больших лет. И когда сотрудники видели, что он немного игрив с Инессой Михайловной, то очень удивлялись – что это с ним, да и женат ведь, да и она замужем. Интересоваться девушками, считал Смирнов, имеет право только он – молодой человек. Да и Сергей Михайлович, наверно, не чувствовал себя пожилым и на равных с сотрудниками участвовал во всяких затеях. Владимир Андреевич привез из Одессы исторический дух российского студенчества, неведомый студентам, учившимся в Риге, атмосферу российских вузов, студенческой жизни, активности, открытости, веселости, любил его сам и активно поддерживал. По стенам винтовых лестниц всех этажей размещалась фотографии с событиями из жизни лаборатории, планы, отчеты о работе и достижениях.
С согласия Владимира Андреевича к празднику 8 марта Юра Жуков и Смирнов нарисовали с десяток картин на ватмане, выражающих радостное молодое весеннее настроение в манере абстракционизма. Малевали с вдохновеньем, свободно пользуясь кистями и любыми красками, ибо не имели никаких ограничений, т.к. этих наук не проходили.
Картина названа „Безденежье” – вечное финансовое состояние молодых специалистов. Но этикетка на бутылке с несколькими медалями казалось бы этому противоречит. Но – нет. Цены на вина соответствовали нашему финансовому состоянию. На табурете непременный атрибут лаборатории – свинцовый контейнер для изотопов. Праздновали в стенах комнаты, увешанной этими, с позволения сказать, картинами. И естественно, как сапожник без сапог, так и наш прекрасный фотограф Юра Жуков все сделал для общества, а сам остался за кадром. Но он нам попадется ниже.
В очередное 8 марта Смирнов и Сергей Михайлович старательно разработали меню для праздничного стола. Задания раздали всем сотрудникам – кто, что и сколько принесет. На следующий день, придя в лабораторию, Смирнов звонит домой Сергею Михайловичу, чтобы кое–что уточнить по празднику.
Отвечает жена:
– Сергей Михайлович ночью умер. –Смерть и похороны вместо праздника, первые в жизни Смирнова.
Завлаб Владимир Андреевич был всего на шесть лет старше Смирнова и остальных сотрудников, жизнерадостный, любивший шутку и готовый улыбнуться ей. Родился и жил в Украине, окончил Одесский институт инженеров морского флота, плавал в Черном море на нескольких кораблях, был пропитан вольным и веселым духом корабля и моря. Имел правильный литературный выговор, читал лекции по деталям машин очень интересно, пожалуй, даже увлекательно, что и привлекло Смирнова в его лабораторию. Лабораторию Владимир Андреевич создал с нуля, как говорится. Его титаническими усилиями был спроектирован и изготовлен зубчатый стендом с замкнутым контуром, оснащен всей необходимой аппаратурой для измерения зубчатых колес, их износа и радиоактивности. Владимир Андреевич имел ученую степень кандидата технических наук, издал в ЛГУ монографию.