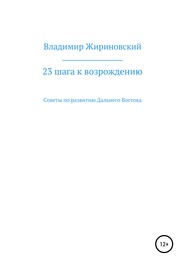По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Станичники
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А в конце 1775 года Екатерина II распорядилась предать яицкое казачество вечному забвению, для чего река Яик переименовывалась в Урал, Яицкий городок – в Уральск, а войско яицкое в уральское. При этом управление войска реформировалось по образцу донского, общие круги отменялись, войсковые атаманы стали назначаемыми.
Заодно Екатерина II обнародовала указ, согласно коему Сечь «как богопротивная и противоестественная община, не пригодная для продления рода человеческого» упразднялась.
Но на рядовых казаков никаких репрессий не было. В указе говорилось: «Всем приватным членам бывших запорожских казаков всемилостивейше велено, не желающих оставаться на постоянном проживании в своих местах, отпустить их на родину, а желающих тут поселиться – дать землю для вечного проживания».
Впрочем, запорожцы, хорошо зарекомендовавшие себя, получили российские офицерские чины. Войны, в которые постоянно впутывалась Екатерина II, требовали толковых казачьих командиров.
СТАНИЦА
По внешнему виду казачьи поселения – станицы – носили отпечаток старинной застройки.
Казачьи сёла располагались вдоль границы кочевников, а основным занятием казаков являлась охрана этих границ от их набегов. Поэтому план застройки прилиней- ных (так сказать, прифронтовых) казачьих посёлков напоминал правильный круг с церковью посередине, близко расположенными домами, чтобы было удобней отражать нападение кочевников.
Казаки же залинейных посёлков в соприкосновение с кочевниками не вступали, поэтому имели возможность свои дома располагать в наиболее удобных местах, чаще вдоль рек и озёр. При строительстве дома казак заранее выбирал место для построек, в том числе и своим сыновьям. Нередко случалось так, что целая улица принадлежала одной фамилии, ведь казачьи семьи отличались многодетностью.
Наиболее распространённая казацкая изба состояла из двух комнат, горницы и кухни. Посреди горницы стоял большой стол, под потолком или на стене висела масляная, а позже керосиновая лампа. На подоконнике – домашние цветы. У стенки – деревянная кровать с пуховой периной и подушками.
В зимнее время горница отапливалась голландкой – круглой печкой, выложенной из красного кирпича и облицованной жестью.
Почти половину кухни занимала русская печь, на шестке которой всегда стояли горшки, чугунки, сковородки и лежало куриное или гусиное крыло, которое хозяйка использовала вместо веника для сметания мусора.
Внизу, под печкой, хранились кухонные принадлежности: шабала, сковородник, ухват, кочерга, деревянная лопатка для садки калачей. Рядом с печкой, под потолком, устраивались полати.
За печкой, как правило, располагался кто-то из домашних животных: телёнок, ягнёнок или домашняя птица и стояла кадка с водой, закрытая крышкой. На крышке лежал металлический ковш. На стенке висел рукомойник.
В тех станицах, где было много лесных угодий, леса делились на войсковые и общественные. Войсковыми лесами распоряжалось войсковое правительство, вырубка в них производилась в исключительных случаях.
Общественные леса принадлежали станичному обществу, разделу не подлежали, вырубка производилась по приговору и на общественные нужды.
Остальные леса входили в состав казачьего пая. Владелец пая распоряжался им по своему усмотрению. Лес служил казаку хорошим подспорьем, из него он продавал хворост, дрова. Иногородние и городские жители платили ему за разрешение собирать в лесу ягоды и грибы.
Нелегко приходилось казаку, когда в его семье было несколько сыновей: ведь каждого из них необходимо было подготовить к службе, каждому приобрести коня, снаряжение, обмундирование, шашку.
Но не легче было казаку, когда в его семье были одни дочери, так как при распределении земельных паёв казачки не учитывались. А вот семьи погибших казаков пользовались особым вниманием. Вдовам выделялась половина пая, при трёх детях – пай, а если детей больше – два пая.
Передача наделов земли офицерам и чиновникам в частную собственность сопровождалась ущемлением рядовых казаков-общинников, переселением их на отдалённые и неудобные земли.
Площадь земли, оставшаяся в общинном пользовании сокращалась, а казачье население возрастало, что приводило к обострению казачьих отношений в войске. Гонимые нуждой казаки-бедняки шли на поклон, к казаку-богатею или на заработки в заводскую зону, на прииски и проч.
Сеяли казаки рожь, ячмень, овёс, озимую пшеницу, горох, но основной культурой была яровая пшеница, урожайность которой в разные годы в разных хозяйствах колебалась от недобора посевных семян до 150 пудов с десятины и не отличалась от крестьянских и других хозяйств. Но способы ведения хозяйства на земле были примитивными – всё делалось вручную. Постепенно, с развитием науки казаки стали сеять подсолнечник, развивалось бахчеводство.
Часть выращенного зерна казаки потребляли внутри своего войска, другую часть вывозили на продажу. Центром торговли как в городах, так и в станицах являлись базары, работавшие один день в неделю. Базарным днём устанавливалось воскресенье. Два-три раза в год устраивались ярмарки, на которых кроме сбыта зерна можно было приобрести различные товары из крупных городов России.
В качестве удобрения для полей применялся только навоз, которого не хватало, так как большую часть его казаки переделывали на кизяк. Накопившуюся за зиму навозную кучу казаки смешивали с соломой, обильно поливая водой. Потом формировали в брикеты, тщательно высушивали на солнце. Получалось топливо, напоминающее торф, без которого зимой в степных районах обойтись было нелегко. А вот на удобрение полей навоза почти не оставалось.
В семье казака работали все, и трудовые мозоли на ладонях носили не только взрослые, но и дети. Воспитывая своих детей, казаки прививали им уважение к труду и любовь к земле.
Общие традиции для всех казачьих войск передавались от деда к отцу, от отца к сыну. Рождение казака приветствовалось выстрелом из ружья, то есть с первого мгновения жизни определялось назначение новорожденного быть воином.
Родственники и друзья, приходившие поздравить роженицу, обязательно приносили с собой варенье и пироги, специально испечённые для этой цели. С порога, перекрестившись на иконы, они произносили: «С новорожденным сынком! Дай Бог его вскормить, вспоить и на коня посадить», то есть вырастить хорошего казака-наездника.
Если же родилась дочь, то гости желали: «Дай Бог вскормить, вспоить да за стол посадить», то есть выдать замуж. Во время крещения казачонка священник подстригал младенца, а волосы его передавал крёстному отцу.
Крёстный брал кусочек воска от своей свечки, закатывал в него волосы и бросал в купель. Все следили за этой процедурой, так как существовало поверье: если комочек волос плавает сверху, то ребёнок будет жить долго, а если утонет, то жизнь у него будет короткой.
Когда казачонку исполнялся ровно год, его в торжественной обстановке родственники, на женской половине дома, подстригали наголо, а волосы передавали матери. Мать складывала их в укромное место и хранила до самой смерти (когда казак умирал, то клочок этих волос клали ему в гроб. Если он погибал вдали от родных мест, то волосы сжигали).
Подстриженного малыша со словами: «Готов казак!» – передавали крёстному отцу. Крёстный сажал ребёнка на неоседланную лошадь и проводил её вокруг церкви, внимательно наблюдая за поведением казачонка, загадывая при этом: если он вцепился руками в гриву, значит, будет казак победителем, если заплакал и стал валиться набок, быть ему сражённым на поле боя. О своих наблюдениях крёстный никому не рассказывал, строго хранил эту тайну при себе.
Став взрослым, казак следовал утверждённым канонам и правилам казачьего быта. Например, полученные в бою раны обрабатывал так, как учили его старшие, разжеванной паутиной вперемешку с порохом.
Целебные свойства паутины и сегодня медицина не отрицает, а от пороха рубец после заживания становился синим. Но это не беспокоило казака, ведь шрамы на теле воина всегда были почётны. А вот татуировку на себе казаки не допускали, всегда следили за чистотой и порядком своего тела.
Даже простая родинка приносила им огорченья, ведь с родимым пятном призывная комиссия могла не допустить к службе в гвардии, так как в гвардию призывались лучшие из лучших, и каждый казак мечтал стать гвардейцем с детства.
Быт казаков связан с походной жизнью и с тяжёлым изнурительным трудом на полях, поэтому каждой заработанной копейке они знали цену, деньгами «по ветру не швырялись».
В дороге казак хранил свои сбережения в загашнике, в небольшом кошельке, пришитом к кальсонам-сподникам, поверх них надевались шаровары и подпоясывались нешироким ремнём из сыромятной кожи, называемым гашником; под него попадал и плотно прилегал к телу кошелёк с деньгами.
Самым торжественным днём считался у казаков войсковой праздник 23 апреля, День святого Георгия Победоносца – покровителя казаков.
К этому празднику в станицах готовились заранее: пекли пироги, шаньги, ватрушки, плюшки, калачи. Ходили друг к другу в гости, дарили подарки, поздравляли друзей и принимали от них поздравления.
Праздник начинался массовыми мероприятиями: поздравительной речью атамана, конными состязаниями, в которых участвовали как взрослые, так и дети, хоровым пением и плясками; заканчивался праздник награждением победителей состязаний и застольем.
Во время трапезы первым садился за стол сам – глава семьи, он размещался в переднем углу, с торца стола. Слева от него, под образами, было место деда – отца главы семейства, о котором сам во время обеда постоянно заботился, проявлял знаки внимания, подавал хлеб, подвигал поближе тарелку.
Далее вдоль стола справа следовали места его сыновей. Старший сын садился рядом с отцом, за ним по возрасту располагались остальные. С левой стороны стола размещались зятья и снохи, за ними – бабушки, матери, дочери. Женский край стола был обращён в сторону печки или кухни, для удобства подавать на стол и убирать со стола посуду.
Перед обедом глава семьи или кто-то по его поручению из младших детей читал молитву. Затем сам брал нож и разрезал каравай хлеба. Принимали пищу молча, соблюдая принцип старшинства.
Никто не мог опустить в миску ложку до того, как это сделает глава семьи. Ложки чаще применялись деревянные, их несли ко рту, не торопясь, подставляя снизу кусочек хлеба.
После обеда вновь читалась молитва, и подавался чай. С этого момента разрешалось вести за столом разговоры, так как чаепитие считалось уже не обедом, а угощением.
Праздничные застолья от обычных отличались лишь тем, что хозяева садились вперемешку с гостями, причём женщины отдельно от мужчин, а молодые незамужние девушки располагались рядом со своими матерями или тётками.
Если в доме появлялся кто-нибудь из мусульман или евреев, то из обеденного рациона исключались блюда, содержащие свинину, чтобы не поставить в неудобное положение гостей, которые по религиозным соображениям свиное мясо не употребляли.
Одной из характерных черт казаков являлось почитание старших, причём в мирное время возраст имел большее значение, чем воинское звание. Старики пользовались особым уважением и любовью не только в семье, но и являлись памятью и совестью всей станицы, играли в ней заметную роль в организации казачьего быта.
Когда старик умирал, в траур погружался весь посёлок. При выносе гроба с телом правое плечо подставлял атаман, а левое – старший сын старика. За гробом двигались многочисленные родственники и побратимы. Кто-то из них вёл под уздцы коня умершего. Конь тоже провожал своего хозяина до могилы.
Побратимство у казаков было довольно распространённым явлением, объединявшим людей, хорошо знавших друг друга и вместе переживших какое-либо серьёзное потрясение, и означало братство по духу, которое часто являлось крепче родства по крови.
Обряд братания имел разные формы. Вот один из них он проводился рано утром. Кандидаты в побратимы уходили в степь и, стоя на коленях и положив на плечи друг другу руки, ждали восхода солнца.
Когда солнце всходило, они целовали землю, читали молитвы и обменивались нательными крестами и рубашками, троекратно целовали друг друга и шли в церковь на исповедь. Основная обязанность побратимов заключалась в том, чтобы без зова приходить друг другу на помощь.