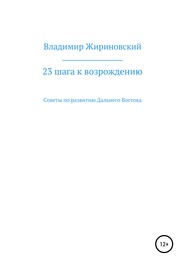По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Станичники
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В дальнейшем увлечение двора иноземщиной только усиливалось. И именно тогда знаменитый полководец Ермолов на предложение просить себе награду сострил: «Государь, произведите меня в немцы».
Национальная государственная политика исчезла – Александр I стал проводить политику «панъевропейскую», создав Священный Союз. В Россию хлынули иностранные советники, учителя, гувернёры. Стали бурно плодиться организации масонов, иезуитов, спиритов.
А на победоносные русские войска вдруг обрушились. гонения! Полагая, что главное предназначение армии – красиво маршировать, Александр I пришёл к выводу, что она в походах «разболталась». В частях началась такая муштра, по сравнению с которой вахт-парады Павла выглядели безделицей.
Широко внедрялись телесные наказания на плацу – розги, фухтели, прогоны сквозь строй. Во время таких публичных избиений погибли тысячи русских солдат.
Именно тогда Россия сделала первый шаг к катастрофе 1917 года.
В 1848 году покатился вал революций – во Франции, Италии, Германии. В Австрийской империи восстали венгры. Громили немцев, славян, румын. И император Франц-Иосиф обратился с мольбой о помощи к русскому царю, который, как и его предшественники на троне, был послушной марионеткой Запада.
Вместо того чтобы выторговать для Отечества полезные бонусы в виде денег и земель, в 1849 году следующий за Александром I император Николай I задарма двинул армию в Европу.
Русские перебили революционеров. Денег с Европы за это не взяли. Вся кампания продлилась 1,5 месяца и не только замирила Австро-Венгрию, но и позволила дипломатическими мерами стабилизировать положение в Германии – немецкие революционеры перепугались, что и к ним нагрянут «дикие казаки и калмыки», и король смог взять ситуацию под контроль. Австрийцы, восстановив порядок у себя, подавили итальянскую революцию. Скатывание Европы в катастрофу было предотвращено.
Но для России политические последствия стали горькими. Вместо благодарности спасённая от резни Европа сплотилась в борьбе против России. К началу 1850-х годов пресса всех европейских государств дружно облаивала Россию и русских. Что интересно: в момент, когда антирусская истерия в Европе достигла апогея, туповатый Николай был убеждён, что весь мир, как никогда, благодарен ему за «восстановление мира».
Чтобы спровоцировать конфликт, европейцы использовали Турцию. Чувствуя за собой силу западных держав, она стала вести себя вызывающе и в 1853 году объявила России войну. Изумлению царского двора не было предела.
Но пока Николай I и его дворня отходили от шока, казаки уже вовсю рубились с басурманами. Турецкий полководец Ахмет-паша, видя, с какой безумной смелостью сражаются казаки (броситься одному на трёх-четырёх турок было для казаков нормальным поступком), воскликнул: «Русские либо с ума сошли, либо упились своей поганой водкой!»
Казаки били турок на всех фронтах. И везде успешно. На Дунае прославилась ракетная (!!!) батарея дунайских ка-
заков. Прикрывала переправы, осаживала попытки турок прорваться в гирла Дуная.
К этому времени в Синопе адмиралом Нахимовым был уничтожен турецкий флот. Турция была разбита наголову. Оставалось только отобрать у неё Константинополь и проливы.
Но тут России ударили в спину. Вступили в войну Англия, Франция и их союзники. Что самое интересное: только-только спасённая русскими Австрия отплатила за недавнее спасение чёрной неблагодарностью – двинула войска к русским границам. Воистину: главный враг России – её безумная дипломатия, плодящая врагов и гадящая друзьям.
Англо-французский флот вошёл в Чёрное море, в апреле 1854 года напал на Одессу. Город отстояли батарея прапорщика Щёголева и казаки 2-го дунайского полка В. Тихановского. Их конная батарея обстреляла и повредила севший на мель английский паровой фрегат «Тигр», а потом казаки на лодках захватили его, пленив команду. Азовскому войску в это время была поручена эвакуация фортов на кавказском берегу, которые при ударах с моря были бы обречены. Теперь казаки и солдаты сами разрушали построенные с таким трудом укрепления.
В сентябре вражеские армии высадились у Евпатории, пользуясь двойным превосходством, одержали победу при Альме. Началась беспримерная 11-месячная осада Севастополя. Полной блокады не было. Полевая армия Меншикова поддерживала связь с гарнизоном, несколько раз атаковала осаждавших. Увы, они тоже успели укрепиться, ощетиниться батареями, и кровопролитные сражения не дали результатов.
Под Севастополь, пользуясь господством на море, враги могли беспрепятственно подвозить любое количество войск, орудий, боеприпасов. Нашей же армии всё это приходилось доставлять с большим трудом, гужевым транспортом, через бездорожье Украины и Крыма. К тому же англичане пытались напасть на Кронштадт, Архангельск, Соловки. Были отражены, но русскому командованию пришлось держать крупные силы на Балтике, Севере, в неспокойной Польше, на австрийской границе.
Народ воспринял вторжение так же, как в 1812 году Снова формировались ополчения. Войско донское провело поголовную мобилизацию, выставив 87 полков и 14 батарей. В Крым пошли также уральцы, оренбуржцы. Особую славу стяжали два батальона черноморских пластунов.
Об их кавказских подвигах мало кто знал, и в Крыму сперва не обратили внимания на оборванцев с черкесскими винтовками и кинжалами. Но вскоре о них заговорили все. В сражении под Балаклавой они захватили 4 редута. А войдя в состав гарнизона, начали регулярные вылазки. Поутру французы обнаруживали передовое охранение перерезанным или исчезнувшим.
Снайперские пули казаков поражали любую цель в пределах дальности выстрела. Нашумел случай, когда пластуны из-за бомбардировки остались без обеда и утащили у французов прямо из-под носа два огромных котла с горячим супом. Из 1600 пластунов 220 навсегда остались лежать в Севастополе. Оба батальона были награждены Георгиевскими знамёнами, а весь личный состав – крестами и медалями.
А вместе с легендарным матросом Кошкой ходил на вылазки 55-летний донской казак Перекопской станицы Осип Иванович Зубов. Отпросившись на 3-й бастион, он выкопал в земле каморку, зажигал ночью лампаду у иконы и молился, будто инок. Был спокоен при самых жутких обстрелах и атаках. И, выбираясь по ночам к англичанам, совершал невероятное: дрался один против толпы, притаскивал пленных офицеров. Зубова и Кошку стали назначать начальниками партий, передовых цепей.
Не в силах сломить героическую оборону, англичане и французы предприняли поход в Азовское море с целью захватить порты и склады, овладеть крымскими перешейками и лишить русскую армию снабжения. Огромный флот захватил Керчь, Анапу. Как пишет историк А.А. Керснов- ский, «войска «просвещённых европейцев» вели себя хуже людоедов, не щадя ни женщин, ни детей».
В Петербурге царила паника. Николай I и придворные готовы были уже отдать агрессорам не только Крым, но и часть Украины и Кавказа. К тому же царь от нервного потрясения (ещё бы: за один день превратиться из мирового жандарма во врага «просвещённой Европы») тяжело заболел, и Россия практически лишилась центрально власти.
И тут своё веское слово сказали казаки. Азовское побережье прикрывали посты из казаков старших возрастов и малолетки. Армада из 68 кораблей 22 мая подошла к Таганрогу. Обороняли его горстка гарнизонных солдат и донской учебный полк из 17-летних юнцов и стариков-наставников. Но на предложение сдаться ответили отказом. Бомбардировка длилась 6 часов. Потом англичане высадили десант, но его контратакой сбросили с крутой горы.
Эскадра проследовала к Мариуполю. Опять предложение сдачи, бомбардировка, десант. К месту высадки подоспел полковник Кострюков с двумя сотнями 66-го полка и причалить не дал. Последовали нападения на область Азовского войска – Бердянск, Кривую Косу.
У Петровской станицы после обстрела враг спустил на воду 100 лодок десанта. Но азовские казаки отбили их, не допустив до высадки. Два месяца подряд неприятельские корабли штурмовали казацкие позиции.
Во время шторма пароход «Джаспер» сел на мель. С постов прискакали донцы 70-го полка, вошли по грудь в воду, чтобы было поближе, стали стрелять из ружей. Англичане сперва отвечали огнём, но нервы не выдержали, сели на шлюпки и отчалили к своим, а казаки бросились вплавь, захватили пароход, 2 пушки, флаги.
Однако защищать Севастополь становилось все труднее. Он был превращён в груды развалин, погибали лучшие командиры, матросы, солдаты. Восьмого августа французы смогли овладеть Малаховым курганом.
Подкрепления и боеприпасы перестали поступать (чиновники в Петербурге Севастополь уже списали со счетов) и дальнейшая оборона потеряла смысл. Но русские войска ушли непобеждёнными – с оружием и знамёнами. А неприятель понёс такой урон, что уже не мог развить свой успех.
Очутившись в международной изоляции, Россия всё-таки сумела сохранить за собой и Украину, и Кавказ, и даже Крым. Александр II, сменивший на престоле умершего Николая I, оказался умным и энергичным политиком. И ему даже удалось вернуть стране захваченный европейцами Севастополь.
Хотя, конечно, победители навязали России тяжёлые условия мира. По сути, это была своего рода почётная капитуляция. По ней Россия отказывалась от Сербии, Румынии и Молдавии. Русским теперь запрещалось иметь военный флот и базы на Чёрном море.
КАЗАЦКИЙ УМ ОСТЁР, КАК ШАШКА
Новые военные реалии требовали от казаков образованности. И в этом отношении казачество во многом опережало своё время, а ум казаков был остёр, как и их шашки.
В казачьих поселениях существовали свои казачьи школы, в которых дети учились не только читать и писать, но и познавали военное искусство.
В младших классах с деревянными винтовками отрабатывали воинские приёмы. В старших же классах, пока ещё с деревянными шашками, познавали азы кавалерийского боя. Администрация войска особо уделяла внимание школьному образованию, контролировала работу школ.
В 1871 году Оренбургский наказной атаман генерал К.Н. Боборыкин своим приказом по войску ввёл обязательное обучение детей всех казаков. Исполнение этого приказа шло с большим трудом, не хватало учителей, школ. Но постепенно школьное дело налаживалось, и в 1880 году уже 70% казаков-мальчиков посещали школы.
Каждый, кто приезжал в те годы в оренбургские станицы, обращал особое внимание на нарядную церковь посередине села, а возле неё два больших здания под железными крышами, выкрашенными зелёной краской; в них размещались не только мужская, но и женская школы – невиданное дело даже для крупных российских городов.
За ходом учебного процесса постоянно следило местное станичное и хуторское руководство. Если кто-то из казачат начинал пропускать занятия, получать неудовлетворительные отметки, немедленно оказывалось воздействие на родителей отстающего ученика.
Часто дело не заканчивалось только беседами и уговорами, родителей штрафовали, наказывали и даже сажали под арест. Особенно сильно муштровали учеников накануне приезда различных комиссий. Такое отношение к школьному образованию позволило к началу XX века поднять уровень грамотности казаков до 69,5% среди мужчин и 50,3% среди женщин, значительно превысив уровень грамотности других казачьих войск России.
Выпускные экзамены в казачьих школах почти всегда проходили в станицах, куда организованно свозили учеников из отдельных селений. Создавали торжественную обстановку. День экзаменов превращался в праздник не только для учеников, но и для их родителей, близких, друзей. Учителя негласно соревновались между собой, старались перещеголять друг друга и как можно больше получить в своём классе похвальных листов.
Свидетельство об окончании казачьей школы подписывали учителя и попечитель школы, наблюдатель за школами, станичный атаман, атаман отдела. Оно заверялось печатью управления военного отдела. К началу ХХ века в станицах и посёлках оренбургского казачества работало 520 школ, из них 359 – мужских и смешанных, 161 – женская. Обучением 34 590 казачат занимались 758 учителей.
Серьёзное отношение к школьному образованию стало традиционным для казаков и передавалось от поколения к поколению.
Общеобразовательный уровень казаков до Октябрьского переворота был значительно выше других групп сельского населения. Так, по переписи 1897 года в Оренбургской губернии грамотных, то есть умеющих читать и писать, среди мужчин насчитывалось 29,6, а среди женщин – 11,4%. Уровень же грамотности казаков к этому времени достигал 60%.
КАЗАКИ ПРОТИВ САМУРАЕВ
Николай II, вступивший на престол в 1896 году, вёл себя очень странно: то предпринимал безумно либеральные реформы, то вдруг становился твердолобым реакционером.
Страдали от причуд нового царя все, в том числе и казаки. Уже в 1896 году иногородним разрешили селиться в казачьих войсках. И сюда с Кавказа, Украины и даже с Балкан хлынули толпы бродяг, обнищавших крестьян, воров и рабочих, уволенных с заводов за неблагонадежность.
И к 1900 году число иногородних превысило количество казаков. Результаты были негативными. С одной стороны, поток извне ухудшал положение казаков. Снижалось паевое довольствие. Уже не хватало земли для выпаса станичных табунов. А цены росли, и с 1900 года для казаков, призываемых на службу, царь был вынужден ввести пособия в размере 100 рублей на покупку коня.
Но, с другой стороны, и положение иногородних было тяжёлым, они завидовали казакам, относились к ним неприязненно. Таким образом, в войсках возникли мины замедленного действия.
Сами же казаки всё чаще стали использоваться в роли карателей, усмиряя крестьянские восстания и разгоняя демонстрации недовольных условиями труда рабочих. Причина была проста – регулярные армейские части становились всё менее благонадежными и боеспособными.