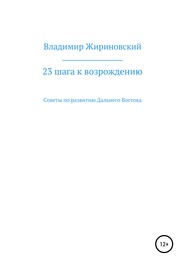По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Станичники
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Были случаи на фронте, когда перед решающим сражением происходило братание целых казачьих подразделений. Родство и побратимство сплачивали казачью общину в одно целое, делали её ещё более монолитной единицей.
Для прохождения действительной службы молодой казак обязан был явиться на сборный пункт в сопровождении своего отца. Рядовые за свой счёт приобретали вооружение, снаряжение, строевых и вьючных лошадей, обеспечивали себя на время командировок в крепости и гарнизоны.
От всей семьи требовалось большое напряжение сил, чтобы казак имел всё необходимое для службы.
И если комиссия находила, что строевая лошадь или снаряжение призывника не годны, то отец тут же должен был приобрести снаряжение у поставщиков.
Если он такой возможности не имел, эти заботы брало на себя казачье общество, причём все расходы затем взыскивались с отца казака. Случалось так, что отец выплачивал долг по нескольку лет, даже после возвращения сына со службы.
К действительной службе казак готовил себя с самого детства. И когда подходил его срок, всё личное откладывалось на долгие годы. Вся жизнь его с этого момента принадлежала войску и строго регламентировалась положениями и наставлениями.
Невесту казак выбирал из казачьего сословия. Свадьбу справлял на широкую ногу, с приглашением гостей, богатыми столами и большим количеством спиртного, от 10 до 40 вёдер на одну свадьбу.
Но бывали и исключения. Казаки переходили в запас в 38 лет, и немало из них из-за отсутствия средств на женитьбу оставались холостяками. А девушки-казачки считали для себя позором выйти замуж без взноса за них их родителями.
Не менее шумными и длительными были проводы на службу. Две недели все родственники и знакомые казака пировали, ходили друг к другу в гости. Прощались.
В день отправки гости собирались за столом в доме казака. Походный сидел в красном углу. Рядом с ним отец и мать. Все пили и желали казаку благополучной службы.
После застолья отец и мать благословляли и напутствовали сына. Все выходили на улицу и песней провожали походного в дальнюю дорогу. И начинается у казака новая жизнь в боях, сражениях и напряжённых учениях, прерываемых праздниками, которых в русской армии насчитывалось 29.
Казаки свято хранили память о своих погибших товарищах. Лишь небольшая часть трофеев, захваченных в бою, ими распределялась между собой. Примерно столько же передавалось атаманской казне и церкви. Всё остальное принадлежало семьям погибших.
Коллективизм, товарищество, чувство собственного достоинства являлись отличительными чертами казачества во все периоды его истории.
Согласно уставу о воинской повинности и положению, военная служба казаков начиналась по достижении ими 18-летнего возраста, вначале в течение трёх лет в подготовительном разряде, затем в строевом разряде в течение 12 лет – из них 4 года на действительной службе и 8 лет на льготе, то есть дома, в своей станице, периодически участвуя в военных сборах.
После чего казак в 33 года переводился в запасной разряд, где пребывал пять лет, после чего переходил в ополчение. Таким образом, общий срок службы казака равнялся 20 годам. Строевую службу казаки проходили далеко за пределами войска.
Внешнему виду казаков, их форменному обмундированию придавалось большое значение. Своеобразно относились казаки к своему головному убору, который служили символом принадлежности их к казачеству.
При входе в дом по количеству фуражек или папах в прихожей на вешалке можно было судить о том, сколько здесь проживает казаков.
Фуражку погибшего казака привозили домой. Кто-то из станичников с обнажённой головой заходил в дом его родных и клал фуражку под образа. Это означало, что хозяина фуражки уже нет в живых.
В дни поминаний и религиозных праздников перед фуражкой зажигали свечку и ставили стакан водки, накрытый кусочком хлеба. Обычно, когда атаман или представитель казачьего руководства заходил в дом, он мог без разрешения войти в горницу, сесть за стол и попросить хозяйку пригласить самого или передать какую-либо просьбу.
Но когда под образами лежала фуражка, отношения были иными: атаман без разрешения уже не входил и обращался к вдове по имени и отчеству.
Если впоследствии вдова выходила замуж, то её новый муж тайком брал фуражку из-под образов, уносил к реке и опускал в воду со словами: «Прости, товарищ, но не гневайся, не грехом смертным, но честью взял я твою жену за себя, а детей твоих под свою защиту. Да будет земля тебе пухом, а душе – райский покой».
Основным вооружением казака являлись винтовка для ведения прицельного огня и пика для нанесения первого удара и преследования противника.
Шашка являлась завершающим элементом внешнего вида казаков и носилась ими в ножнах обухом вперёд на плечевой портупее. К этому виду холодного оружия казаки испытывали особое расположение. В каждой казачьей семье имелась своя родовая шашка. Она хранилась наравне с наиболее ценными и важными предметами и передавалась по наследству.
Как святыню оберегали казаки свои боевые знамёна – символ их воинской чести, доблести и геройства.
Ну и, конечно, стоит повторить, что основой живущих в станице людей было православие.
Являясь жителями сельской местности, где вера в бога была возведена в непререкаемый культ, казаки следовали установленным церковью правилам.
По праздникам и в пост ходили в храм, при этом обязательно надевали парадную форму. Хуторские и поселковые атаманы следили за этим и налагали штраф на казаков, если они появлялись на богослужении в какой-либо неисправности.
В прошлом часто бывало: при переселении казаки разбирали свою церковь, перевозили на новое место и устанавливали вновь. Однако ежедневное хождение в церковь обязательным не было.
Нет, конечно, среди станичников, особенно пожилых, встречались и те, кто молился с утра до ночи и соблюдал все посты, но в целом казаки в религиозных вопросах особого фанатизма (например, вроде нынешнего исламистского с его стержнем – учением о джихаде и убийстве всех неверных) не проявляли, особую ревностность проявляя разве что по религиозным праздникам.
Отмечая их, казаки редко обходились без спиртного. Веселились на славу. Пили помногу, долго, по целой неделе. Храмовые же праздники праздновались по 3-4 дня подряд, отнимая много времени.
Среди казаков были распространены суеверия: вера в клады, в существование ведьм, колдунов, в изурочивание, в сглаз, в заговоры от лихорадки и др. Зимним вечером, когда за окном мороз и буран, большие казачьи семьи собирались в тёплом углу у печки, при тусклом свете керосиновой лампы, в присутствии детей, обсуждали невероятные истории, связанные с народными поверьями.
По убеждению казаков, в каждом доме имелся свой домовой, в виде маленького старичка, ростом всего в пять вершков, с длинными седыми волосами и бородой. Он жил под печкой или в подполье. Ночью, когда все спали, домовой выходил из своего убежища и охранял дом и хозяйство. Если в хозяйстве что-то не ладилось, то нередко казак объяснял свои неудачи просчётами и невниманием домового.
Другой персонаж поверий, леший, по представлению казаков, жил в глухой чаще не один, а с женой и дочерями, которые ходили нагими, с длинными, до пола волосами. Если им кто-то попадался в лесу, они его ловили и стремились защекотать до смерти.
Казак с детства знал, как поступать, если придётся встретиться с дочкой или женой лешего. В этом случае надо немедленно читать «воскресную» и не допускать их до себя, иначе начнут прельщать мужчину своими прелестями, представятся писаными красавицами. Человек заглядится, а она незаметно подберётся и защекотит.
В представлении казаков водяному не приписывался человеческий образ, как лешему и домовому, он представлял что-то страшное и неопределённое. Жил семейно: с женой и дочерьми-русалками. Последние выходят из воды ночью, садятся на мост, плотик или просто берег и чешут себе волосы. Если кто подойдёт к ним, то они стараются заманить к себе и утопить.
Но русалок казак не боится, «с бабами он вообще мало считается, а русалка тоже баба, ну с ней разговор короток – за волосы да об пол».
ПЕРВЫМИ ВОШЛИ В МОСКВУ
При царствовании Александра I на Россию обрушились такие испытания, перед которыми блёкли все битвы предыдущего столетия, ибо этот император ухитрился вовлечь Россию в войну с практически всеми её соседями и даже с государствами, находящимися весьма далеко от Русской земли.
В Закавказье, вместо того чтобы сделать персов союзниками в войне с турками, русские воевали, Персией, вступившись за продажных властителей Грузии.
В 1805 году загромыхали войны против Наполеона в союзе сперва с Австрией, а потом с Пруссией. А Наполеон, в свою очередь, в 1806 году втянул в войну против русских Турцию.
Но казаки не ругали царя за ошибки и послушно лили свою кровь от Балтики до Чёрного моря, покрыв себя славой на всех фронтах.
Кстати, бывшие союзники России были не прочь порезвиться на её территории. В 1812 году на Россию пошли «двунадесять языков» – не только враги-французы, но и бывшие мнимые друзья: пруссаки, поляки, баварцы, саксонцы, австрийцы, итальянцы, венгры и проч.
Когда 12(24) июня 1812 года эти полчища начали переправу через пограничный Неман, первыми их встретили казаки. Пикеты лейб-гвардии казачьего полка послали первые пули в захватчиков. А командовавший постами штаб-ротмистр А.Н. Рубашкин немедленно доложил командиру полка В.В. Орлову-Денисову, который послал к ничего не знающему о войне царю, находившемуся в Вильно, донесение с урядником Иваном Крючковым.
Всего на начало войны в армии находились 50 донских казачьих полков, 10 уральских, 6 оренбургских, 2 бугских, 2 чугуевских, 1 ставропольский, 4 башкирских, но они тоже были разбросаны по разным группировкам.
На главном направлении группу из 14 полков с ротой артиллерии возглавил Платов. Наполеон направил крупные силы против слабейшей армии, Багратиона, надеясь легко раздавить её и сбросить со счетов. Но Платов прикрыл её отход, задержал врага – и одержал первые в этой войне победы. Атаманский полк у деревни Кореличи 26 июня заманил в вентерь бригаду Турно, она была разгромлена. Командующий французским авангардом Латур-Мобур бросил сюда дополнительные части, дивизию Рожнецкого.
Но и к Платову подошло подкрепление. И 28 июня у местечка Мир враг снова был разбит. Платов доносил: «Сильное сражение продолжалось часа четыре, грудь на грудь. из шести полков неприятельских едва ли останется одна душа, или, может, несколько спасется. У нас урон невелик».
А 12 июля Платов получил приказ совершить набег по тылам врага. Провели его мастерски. Разбившись на небольшие отряды, казаки вдруг объявились повсюду – под Могилёвом, Оршей, Шкловом. Жгли, громили, били небольшие партии неприятеля, а стоило поднять тревогу – уже исчезали. Это было началом того кошмара, которому предстояло сопровождать французов всю кампанию.
Вскоре по единодушным настояниям всего русского общества царь, скрепя сердце, назначил главнокомандующим нелюбимого им Кутузова. Позиция для генерального сражения им была выбрана у села Бородино.
А чтобы оборудовать её и задержать врага, был дан арьергардный бой у Шевардино и Колоцкого монастыря. На 12 тысяч наших воинов 24 августа навалилась вся французская армия. Казачьими полками здесь командовал генерал Иван Кузьмич Краснов.
Ядром ему «измочалило ногу», но он продолжал руководить боем. Лишь отразив очередную атаку, передал руководство Иловайскому 5-му и позволил отвезти себя на перевязку, где и скончался.