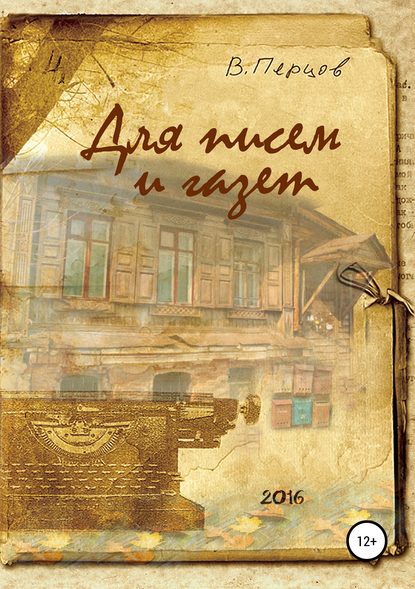По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Для писем и газет
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В городе Хухоеве Хухоевского района в пятницу заканчивали перестройку.
Был назначен праздник, демонстрация, факельное шествие и открытие зоопарка. На праздник победного завершения перестройки в Хухоеве ожидалось высокое начальство из области и даже, может быть, из столицы. Первый секретарь райкома уже заготовил фразу, которой собирался открыть празднества: «Хухоевцы! Перестройка, о которой так мечтали большевики, свершилась!»
Оставалось четыре дня.
Город жил и кипел последними приготовлениями. В штабе перестройки было накурено, как в Смольном. Зам. по идеологии докладывал о проведении линии на сближение партии с церковью и верующими.
– На сегодняшний день, – говорил он простуженным голосом, – в районе восстановлено и отстроено 35 церквей и часовен, учрежден католический орден, а также женский монастырь, который вскоре примет первых насельниц из числа сотрудниц расформированного горкома комсомола.
– Из числа – это хорошо, – отметил секретарь. – Скажите, пусть не волынят с постригом, скажите, пусть рассматривают это как боевое задание партии – им не привыкать.
– А если линия на сближение изменится? – спросил кто-то опытный.
– Все учтено, – ответил зам. по идеологии, – В фундамент каждого отстроенного храма заложено по два ящика с динамитом, а монастырь будет расположен прямо в здании бывшего горкома комсомола, которое после соответствующей команды заработает в прежнем режиме.
– Это правильно, – оживился Первый. – Это по-нашенски!
– Также, – продолжал воодушевленный зам, – местный батюшка о. Питирим принят кандидатом в члены КПСС, а низовые партийные…
Но тут в эту перестроечную бочку меда влилась первая ядовитая ложка дегтя, из-за которой дальше все и началось.
Как только зам. начал сообщать, что низовые партийные звенья во исполнение линии на сближение с церковью, организованно крестились с пением Интернационала в реке Хухоевке, в дверь просунулась голова мелкой райкомовской сошки и произнесла роковые слова:
– Товарищи, я извиняюсь, срочная новость. Гришка Резник уже не едет!
– Как не едет! Послезавтра торжественные проводы!
– А вчера, говорят, напился, заперся у себя в парикмахерской, бил зеркала, плакал, ругал оба портрета на стене! А сегодня утром сказал, что никуда не поедет.
Это было серьезно.
По плану Гриша Резник – единственный хухоевский еврей – должен был уехать на свою законную родину, показав всему миру, что в Хухоеве чтут дух и букву международных соглашений. Своим вероломным отказом он наносил болезненный удар в спину перестройки.
Короче, Гриша должен был выехать живым или мертвым – такой приказ получил Александр Иванович Перерепенко, небольшой ответственный чиновник. Получил, и пригорюнился.
– Сволочь Гришка, – думал он, кляня ветер перемен, свободу передвижений и совсем уже некстати покойного Лазаря Моисеевича Кагановича. Дело было гиблое. Во-первых, Гриша был известен всему городу ослиным упрямством; во-вторых, у них с Александром Ивановичем были давние счеты; в-третьих, если Гриша не уедет, что будет самому Александру Ивановичу – лучше об этом не думать.
Нужен был план или спасительная мысль.
Мысли не было.
Вместо них была одна злость, да в исполкомовском дворе орали друг напротив друга два кота. Александр Иванович кинул в них подвернувшимся под руку «Анти-Дюрингом», не попал и велел вызвать Серегу Еременко, который числился в списках как активист Всесоюзного добровольного общества «Память».
– Серега, – спросил Перерепенко, – кто, кроме тебя, еще в «Памяти»?
– Я один, – ответил усатый Серега.
– Как один?!
– Вот так! Я и в «Памяти», я и в «Мемориале», я и в «Обществе любителей эстонского языка в Нечерноземье»…
– Короче, – перебил его Александр Иванович. – Ты Гришку Резника знаешь?
– А кто его не знает! – сказал Серега. – Мы с ним по пятницам в баню ходим, в Водкинск.
– В общем так, – сказал Александр Иванович, – ты знаешь, что мы подписали Венскую конвенцию?
– Я не подписывал, – ответил простоватый Серега.
– Это неважно. По этой конвенции каждый может жить, где хочет, а Гриша не хочет.
– Жить не хочет?!
– Отказывается уезжать на свою законную родину. Надо на него воздействовать по линии «Памяти».
– Ну, – сказал грубый Серега. – Я за Гришку могу сам кому хочешь воздействовать по чердаку.
– Чудак, – сказал Александр Иванович и начал объяснять, почему именно Гриша должен уехать.
Из его рассказа недалекий Серега понял, что в пятницу приедет в Хухоев ЦТ принимать перестройку, обнаружит Гришу, объявит перестройку недействительной, доложит в Москву, и власть в стране захватят молдаване.
– А давайте его спрячем, – сказал перепуганный Серега.
– Куда?!
– Найдем. У меня тетка в Житомире в войну две еврейские семьи в погребе прятала, говорила, что еще место оставалось.
В общем, уговорил Александр Иванович члена общества «Память» Сергея Еременко выполнить свой патриотический и интернациональный долг. Даже прочел небольшую лекцию, которая начиналась словами: «Еврейские погромы имеют давние боевые и революционные традиции. С криком «Бей жидов – спасай Россию!» ты врываешься в парикмахерскую…».
Короче, был составлен план действий.
Перерепенко приказал исполкомовскому сидельцу Матюхину собрать все Гришкины документы и принести их прямо в парикмахерскую. Сам Александр Иванович вздохнул, причесался и отправился к Грише на переговоры.
Переговоры с самого начала зашли в тупик.
Высокий, чуть согнутый Гриша с бледным после вчерашнего лицом молча исправлял в парикмахерской им же самим нанесенный материальный ущерб и на все уговоры и доводы о патриотизме, его – Гришиных – золотых руках, отсутствии в этой стране мыла, асфальта, пива и других элементарных бытовых удобств отвечал односложно: «Мне хватает!» или: «Я сказал, не поеду и все!».
– А зов предков! – кричал Перерепенко.
– У меня все предки тут, – говорил Гриша, – на первом городском кладбище. А дедушка Яков, между прочим, был Ворошиловский стрелок. Он бы тебя за такие речи шлепнул бы и был бы по-своему прав.
Александр Иванович посмотрел на часы. По его расчетам, уже минут десять как должен был появиться Серега со своей акцией, но того не было.
– Слыхал, – неуверенно объявил он, – активизировались головорезы из общества «Память».
– Вот они туда пускай и едут, – нелогично ответил Гриша, завершая уборку и собираясь уходить.
Аргументов у Перерепенко больше не было. Чертов Серега все не появлялся. С улицы донесся короткий крик – это с хухоевской водокачки упал пьяный. Александр Иванович вздохнул и сказал совсем по-человечески: