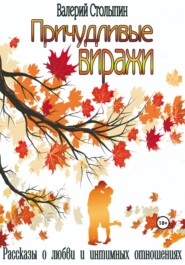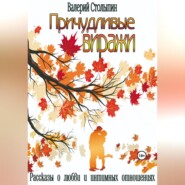По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Искушение
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Колька волновался, долго не мог приступить к задуманному: всматривался в лицо любимой девушки, гладил смоляные волосы, бархатистую кожу, прикасался к губам.
Безумное желание овладело им задолго до триумфа. Теперь Танюшка никуда не денется.
Девушка начала приходить в себя. Кулешман заторопился, принялся лихорадочно стягивать с неё одежду, целовал в губы, сладость которых не шла ни в какое сравнение ни с Веркиными, ни с чьими-то другими поцелуями.
Танюшка была его первой девочкой, непорочной девственницей, которая до скончания века будет принадлежать только ему.
Колька долго, несколько часов кряду, но очень осторожно мял и терзал неподвижное тело, стараясь не причинять любимой боли, не делать резких движений, что удавалось не всегда и не совсем.
Это был его звёздный час, долгожданная блистательная победа.
– Будь что будет, я не мог поступить иначе, со мной так нельзя, пусть даже убьют, мне всё едино – твердил Кулешман, сосредоточенно насилуя безвольную жертву.
– Я люблю тебя, люблю, люблю, люблю, – с каждой минутой увереннее и громче выкрикивал он в припадке неистовой похоти, – я тебе докажу. Жить будешь как королева. Я для тебя…
Пришедшая в себя “королева” с окровавленными ногами и искусанными губами закричала было. Колька зажал ей рот, пригрозил.
– Поздно невестушка, жена мне теперь, моей волей жить будешь. А любить, любить научу, заставлю. И не вздумай орать – взгрею. У меня рука тяжёлая, сама знаешь.
Танюшка беззвучно билась в истерике, пустила слезу, но больше не голосила, а когда успокоилась, часа два просидев в Колькиных объятиях, безропотно позволила себя целовать.
Тёмной ночью, почти к полуночи Кулешман привёл Танюшку отцу, Ефиму Пантелеевичу и безапелляционно заявил, – дочку твою тестюшка я спортил, извиняй уж, не стерпел её противления. Не девица она теперь. Ругать и наказывать не смей – зашибу. Я за всё в ответе, с меня и спрашивай. У нас на Руси закон такой – кто молодицу бабой сделал – тот и под венец ведёт. Решай сам, хочешь, воля твоя. Только я по факту ейный муж. Переиначить это неоспоримое обстоятельство не можно, целку взад не возвернёшь. Никому боле не отдам, пока жив буду, поскольку люблю. Если желание имеешь, можешь прирезать, сопротивляться не стану. Решай.
Неделю кузнец сивуху без меры пил, решал, что делать. Пороть и срамить девку побоялся.
Обрядовые церемонии соблюли, как положено. Без роскошества, но с белым платьем, с фатой и полусотней гостей.
Дрожки свадебные были, украшенные по обычаю, запряженные в тройку скакунов. Правда, кони были рабочие, заезженные, дружки у жениха отсутствовали, радости на лицах приглашённых не было видно, а в остальном свадьба как свадьба, не хуже, чем у других.
Родила Танюшка дочку в положенный срок, особо не мучалась. Девочку назвали Марией.
Славная выросла девица. Лицом и статью не в отца пошла – в маменьку. Костью тонкая, волос как вороново крыло, осанистая, смешливая, но уверенная и спокойная.
Николай со временем душой отогрелся, норов слегка умерил. Люльку, бывало, качает, обнимая прикорнувшую от устатку жёнушку, чтобы, значит, Танюшка выспалась. Жизнь, хоть и по принуждению, начала понемногу налаживаться.
Русские бабы добрые, терпеливые, податливые.
Одна у молодых проблема – жене с мужиком в постель пока нельзя, разорвалась при родах, а Кольке край как необходима женская ласка. Нет у кулешмана терпежу.
Пошёл Колька за подмогой по женской части к Верке Струковой. Там его кузнец и застукал.
Не стерпел тестюшка измены, вломил “по самое не балуй”, силы , силы богатырской не размерив: нос зятюшке в запале набок свернул, ногу в трёх местах переломил и так, по мелочи.
Слёг Кулешман.
Танюшке его жалко до слёз: хоть и силой взял, а всё муж, отец Марусенькин. Притерпелась, любить научилась. Душа-то у Кольки добрая.
Ухаживала, переломы и раны лечила. Кулешману всё нипочем. Он и на тестя не в обиде – за дело учил.
Пока Танюшка рану перевязывает, Колька под себя её подомнёт и под подолом хозяйничает. Та кричит, отбивается, а у муженька от бабьего запаха крышу сносит.
– Можно – нельзя, плевать я хотел на всех вас. Давать обязана. У меня штамп в паспорте. Мне государство дало полное право бабьей серёдкой по своему усмотрению распоряжаться.
Ладно бы ласково, тогда бабе легче боль стерпеть, а он грубо, с размаху, даже перелома не чует, как сладкого мёда хочется. Набрасывается как хищник на добычу и долбит, покуда Танюха сознания не лишится.
Потом опомнится, ластиться начинает, прощения просит. Понимает ирод, что подобная лихость не любовь, а похоть звериная, что по причине природной одержимости обладать властью над женщиной. справиться с которой, совладать с вожделением, с греховными помыслами не в силах.
Очнулся, Танюшка опять лежит, обливаясь горючими слезьми, растерзанная, с кровавой раной в промежности.
Как ни крути, а по собственному желанию выбрала лихую долю, не захотела срама. Добровольно согласилась стать женой ненасытного зверя. Потому, что понимала: никому кроме Кулешмана постылого порченая баба не нужна будет. Это в городе можно по всякому, а на селе хочешь или нет – блюди себя, пока замуж не пошла.
– Лучше бы порешила себя тогда. Воли недостало с жизнью расстаться. Хотела как лучше…
Силища у Кольки воловья. Входит в Танюшку, словно сваю вбивает. Больно и обидно, но, муж. Богом данный. Венчанные они теперь. Видно судьба, такая. На роду говорят писано, испытывать муки невыносимые или счастье безмерное в освящённом церковью браке.
Бог терпел и нам велел.
Верка, однако, Струкова, с радостью его принимала. Ей чем больнее и шибче – тем приятнее. Крутится под Кулешманом, бесстыдно подмахивает навстречу размашистым толчкам тазом, разогревая тем самым и без того зверский Колькин аппетит и орёт как ненормальная, – глыбже, соколик, глыбже, страсть как люблю, когда ты весь во мне. Была бы моя воля – всего бы тебя туды затолкала.
Может, это она, Танюшка, неправильная, может это у неё по женской части чего не так устроено? Мужу старается не отказывать, но принимает его кобелиные ласки как муку адскую, как пытку. Каждый раз после его грубых набегов промежность горит, в животе ноет.
– Терпеть нужно. Ради дочки терпеть. Без родителя девке никак нельзя. Меня батька до семнадцати годков сберёг, дале не сдюжил, а без отца беда… Божечки, как меня угораздило на глаза Кулешману попасться, похоть его ненасытную возбудить. Вот и стала бабонька королевой. Хорошо хоть не бьёт.
Так и жили до поры.
Делить Кулешмана в постели Танюшке чуть не с половиной деревни приходилось. Людям в глаза смотреть тошно. При ней молчат, а заглаза такое бают – не приведи господи.
Колька никем не брезговал. Мог и старуху силой взять, и молодицу приголубить.
Бит был многократно, увечий накопил достаточно, но не унимался. Самое удивительное, что всё сходило ему с рук: ни разу на него не заводили уголовного дела, хотя и девок и баб, осрамлённых, обиженных непристойными домогательствами и насилием было предостаточно.
Телятницы на ферме опасались оставаться на ночные дежурства в его смену за исключением пары любительниц, которым его ласки пришлись по вкусу.
Любимым делом Кулешман мог заниматься когда угодно и сколько угодно.
Продолжалась такая неспокойная жизнь до тех пор, пока не случилось вовсе ужасное событие.
Марийка была тогда в том же возрасте, когда Колька насильно сделал Танюшку женщиной. Стройная, гибкая, изящная. Не девчонка – загляденье. В деревне люди нескромно шептались, мол, Кулешманова ли дочка? Больно уж справная девка, без изъянов, словно городская, а самое главное – совсем не рудая.
Известно же всем, что рыжая масть всегда у детишек в первую очередь вылезает, а Манька чернявая. Говорят, что в тихом омуте…
Кулешман умом силён не был, богатырская стать в мышцы ушла да в корень, которым он что ни попадя ковырял. Ребятишек с огненными кудрями по деревне бегали. Этих головок, как у молоденького подосиновика, хоть в свидетельствах о рождении были другие отцы, на селе не скрыть.
Однако, догатку к делу не пришьёшь. Бабы не признавались, Кулешман гордо ухмылялся.
Услышал строптивый родитель обидную для себя версию о инородном происхождении дочери и психанул. Что творилось в его голове – никто не ведает, но с фермы Кулешман пришёл в состоянии сильного подпития.
Опьянение родителя было тем непонятнее, что он отродясь капли спиртного в рот не брал. Его от горячительного зелья и вообще от пьяниц с души воротило. И вдруг такая оказия…