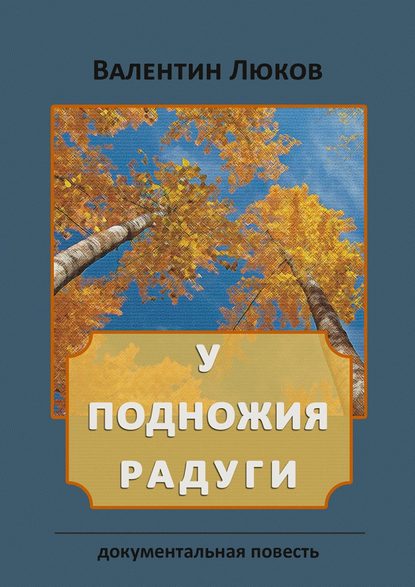По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
У подножия радуги. Документальная повесть
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Все может быть, откуда нам знать? – простодушно согласился Карцев.
– Надо знать!.. Пройдет немного времени, вернутся наши, с чем перед их судом предстанешь? Спросят – почему не в армии, что ответишь?
– А меня не взяли, непригоден, кила у меня, вот и весь сказ. Надо – и бумаги есть.
– А почему в старосты пошел?
– Назначили.
– Почему народ притеснял? – наседал Николай.
– Э-э, народ мы не обижаем, все подтвердят. Как же мы своих, деревенских обижать начнем? Не по совести это.
– Зачем же ты ко мне пришел?
– Должны мы знать, кто тут из посторонних проживает, мало ли что?
– Тогда решай сам. Можешь заявить, что я здесь и кто я. Меня расстреляют, но и ты от суда не уйдешь.
– Нам это без надобности. Не собираемся никого выдавать. А если и выдаст, так кто-нибудь окромя нас. А мы что? Запишем тебя колхозником – и делу конец. Только чур – без баловства, а то были тут двое, обмоглись малость и в леса подались, а мы отвечай за каждого. – Карцев снял шапку, хлопнул ею по колену. – Давай уговор: пишем тебя колхозником, а ежели коммунисты вернутся – подтвердишь о нашем поведении.
– Это будет зависеть от тебя. Как поведешь себя, так и будет. Ну, а я – останусь жив – скажу, если заслужишь.
– Ладно, отходи. – Карцев встал, небрежно бросил шапку на голову и снова превратился в сердцееда. – А насчет политрука молчи, окромя нас никто не знает. Прощай пока!
Едва закрылась дверь за Карцевым, как в избу влетела Анфиса. Увидела спокойное лицо Николая, привалилась плечом к стене, виновато улыбнулась и стала поправлять сбившийся платок.
– Напужал до смерти, вражина!.. Чего он?
– Да так, побеседовать зашел, познакомиться.
– А я как увидала – кабур у него не за стегнут, так все оторвалось. Ну, ничего, слава богу. Я сейчас.
Она вышла в сени и вскоре вернулась с огромным букетом опавших листьев.
– Вот, для тебя постаралась. Какая красота-то в лесу! Век бы не уходила. Все огнем горит, и надышаться никак не можно. Сейчас я его в банку только поставлю.
Она сбросила жакетку, достала из печурки банку, подошла к постели. На Николая пахнуло влажной лесной прелью, прохладным ветром и небом.
– Осенние ромашки! – продолжала радоваться Анфиса, склонившись над кроватью и устанавливая букет на подоконник, около подушки Николая.
Он только теперь заметил, какая она по-девичьи стройная и гибкая, какие у нее мягкие и нежные руки, обнаженные до локтей, какие чуткие и ласковые пальцы, перебирающие веточки букета.
– Нравится?
– Великолепный букет! Как ты сказала, осенние ромашки? По-моему, это лучше, чем любые ромашки.
– Вот поправишься, вместе пойдем в лес, только, боюсь, к тому времени будет зима.
– А разве зимой в лесу плохо?
– Я больше люблю осень.
Он поймал себя на том, что разглядывает ее, и смутился. А она перехватила его взгляд, зарделась.
– Ну, я побегу. Сейчас старики придут, они малость поотстали.
И ушла, на ходу надевая жакетку.
А он долго думал об Анфисе и о том, как нетрудно человеку обмануться в своих надеждах.
8
– Прохор Игнатьевич, бритвы у тебя нет ли?
– Не то бороду снять надумал?
– Угадал. И усы – тоже.
– Нынче, поди, сподручней небритому-то. Глянешь – да и примешь за мужика. Вид у тебя будет ненашенский, приметный.
– Дай бритву, коли есть!
– Гляди, как лучше хотел. Сам-то я ей никогда не баловался, с парнятства бороду ношу, от зятя осталась.
– От зятя?
– Сгинул в финскую, вот Анфиска-то и бедует одна.
Прохор полез в сундук, долго копался в небогатой рухляди, нашел. Бритва была завернута в тряпку. Там же, в узелке, оказался и помазок. Поставил перед Николаем щербатое зеркальце, достал из печи горячей воды. Сел напротив, облокотившись на подоконник.
– Сперва бы ножницами.
– Давай ножницы.
Борода была длинная, редкая и неряшливая. Николай глянул в зеркало, поморщился, хмуро сдвинул брови: борода – на добрую треть седая. Вот, оказывается, почему он похож на мужика. Заявиться сейчас к матери, обмерла бы. Была седина и на висках, но не так заметно. Появились неглубокие морщины на лбу и вдоль переносицы.
Прохор следил за ним, сочувственно покачивал головой.
Вошла Анфиса. Увидала его бритым, оторопела. Совсем мальчишка. И больно и сладко сделалось в груди. Подошла бы, обняла его русую голову, осыпала бы поцелуями, да бабий стыд не велит. Он не знает, чего стоят ей эти недели, пока он живет у родителей. Не знает он и того, что не бывает ночи, чтобы заснула она на сухой подушке.
Прохор взял березовый веник и стал заметать бороду под печку.
Николай потянулся за костылями, стоявшими у кровати. Анфиса поспешно подала их. Он кивнул, но ничего не сказал. Тяжело поднялся, приладил костыли под мышками, с помощью Прохора оделся и вышел на крыльцо. Анфиса не посмела пойти за ним. Села на лавку напротив окна, ждала, когда он пройдет мимо.
Отец бросил веник, сел рядом.
– Вижу, девка, все вижу… Сдается мне, что и он видит, оттого и сумрачен стал.