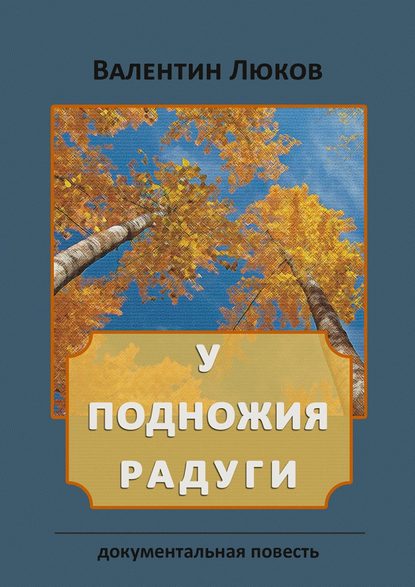По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
У подножия радуги. Документальная повесть
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Так точно, товарищ комиссар! – вытянулся Валуцкий. – Прошу прощения, товарищ комиссар.
– Вам рано это понимать, – смягчился старик и повернулся к Борисову. – Пойдете политруком минометной роты. Документы и обмундирование получите в штабе. Найдете лейтенанта Лекомцева, с ним будете воевать, он командир роты.
– Спасибо за доверие, товарищ дивизионный комиссар! – прервавшимся голосом ответил Борисов и выбежал во двор.
– Следующий!
– Капитан Храмцов! – услышал Борисов за своей спиной бодрый голос и догадался, что это тот самый бородатый крепыш со шпалой в петлице.
4
Знобкий ночной воздух полон тяжелой влаги. Туч не видно, но Николай чувствует их близость. Они так низко повисли над землей, что кажется, протяни руку и коснешься их мягких волокнистых закраин. Холодно – идет октябрь.
А ему жарко. Как и вчера, температура поднимается к ночи. Хочется пить. Смертельно хочется пить. Отдал бы остаток жизни за глоток воды. Любой. Пресной, соленой, холодной или теплой. Пусть болотная, пусть из лужи, – в одном глотке – спасение. Фляга опустела еще вчера, и он ее выбросил. Руки уже немеют и отказываются передвигать набрякшее немощью тело. На спине невыносимо трудно ползти, а на животе нельзя. Вчера хоть помогала левая нога, сегодня она отказалась повиноваться. Плечи тупо ноют, голова налилась свинцовой тяжестью, ее не поднять. Когда он подтягивается на руках, голова упирается в борозду и не дает сдвинуться с места.
Почему не прольется дождик? Два дня назад, когда было не нужно, он лил сплошным потоком. Вчера утром перестал. Солнце и ветер высушили лужи.
Что это? Трава мокрая. Роса. Как он забыл, что сейчас по ночам выпадает роса?
Стиснув зубы, Николай переворачивается набок и припадает губами к траве. Жажда так нестерпима, что в первое время он не лижет вялые листья, а жует их. Потом он уже сосет стебли снизу доверху, бережно расправляя каждый листик на ладонях.
Жар спадает, голова становится легче, и он может проползти еще несколько метров. Ночью ползти легче, надо спешить. Хотя бы метров триста преодолеть до утра. Потом взойдет солнце, выпьет росу, и он снова впадет в забытье.
…Когда Николай снова очнулся, ночь уже ломалась. Под холодным зоревым ветром скрипел сухой бурьян. Линял, светлея, горизонт над зубчатым лесом. Прямо над головой Николая, там, куда был устремлен его взгляд, в разводьях стылого облака плескалась луна. Когда она взошла и поднялась в зенит, Николай не видел. И дальше, в темном бездонье неба, тускло мерцали звезды.
Больше Николай ничего не видел. Деревня была впереди, и, чтобы ее увидеть, надо было повернуться, но у него не было сил. Он попробовал ползти, ничего не получилось. Руки цеплялись за рыхлую землю и срывались. Тогда он понял – лежит в воронке. Наверное, он уже терял сознание, когда свалился в нее. Теперь все. Это конец. Из ямы ему не выбраться.
Что же, выходит, косматая была права? Зря он стремился куда-то и терпел муки? Но ведь он жив, черт ее побери!
Стисни зубы, собери нервы в клубок и борись, Николай Борисов! Вспомни лейтенанта Лекомцева. Это был самый молодой командир из всех, которых ты когда-либо встречал. Ему не исполнилось девятнадцати. Он ни разу не держал в руках бритву, его розовое лицо с припухшими юношескими щеками едва начинало покрываться мягким пухом. Ты успел подружиться с ним за последний месяц. С ним нельзя было не подружиться. Это был юноша с чистой, ничем не запятнанной совестью. Он очень любил жизнь и не меньше – песню. Иначе и не могло быть, ведь он почти год проучился в консерватории. Он мог бы ее закончить и стать знаменитым певцом, у него были данные.
Ты обязан, Борисов, пронести с собой память о той атаке фашистов. Ты помнишь, какой был артналет. В огне и дыму нельзя было разобрать, где земля, где небо и вообще целы ли они еще или все превратилось в сплошное месиво. Ты знаешь, как дрогнул пехотный батальон, который вы поддерживали, как противник прорвал передний край и неудержимой лавиной устремился в брешь, обходя вас с флангов. Вы обнялись с Лекомцевым и дали клятву стоять до конца, потому что приказа к отступлению не было. Но не было не только приказа. Не оставалось уже и людей, минометы замолкали один за другим. Ты и Лекомцев стояли у минометов, сами вели огонь. А как яростно дралась соседняя артиллерийская батарея! Наводчиком у одного орудия был командир полка, а снаряды ему подносил комиссар дивизии. Тот самый седой старик. Они были расстреляны в упор вражескими автоматчиками. А когда фашисты окружили позицию Лекомцева, командир роты бросил гранату в минный ящик…
Мучила жажда. Руки нетерпеливо ощупывали землю, но в воронке не было травы, а значит, не было и росы…
Мир как-то разом раздвинулся – близился восход солнца. Звезды поспешно исчезали, как снежинки с гладкой поверхности, по которой прошелся ветер. Облака валко катились на восток.
А вот и солнце. Его из воронки пока не видно, зато видно, как яркая палевая дрожь пробежала по макушкам чернобыльника, как заслезилась ржавая трава по обрезу ямы, как желтоватые густые полосы подкрасили края облаков.
Начинался третий день борьбы Николая Борисова со смертью…
Вязкая, пронизывающая все тело боль возвращает ему сознание. Он смотрит прямо перед собой и ничего не может понять. На краю воронки стоит старик с лопатой и медленно засыпает его ноги. Старик невысок ростом, кряжист, одет в залатанную фуфайку, и все его лицо, кажется, состоит из одной огромной бороды и крохотных слезящихся глаз. Позади старика опустилась на колени ветхая старушка, левой рукой она держит угол передника, а правой торопливо и путано крестится. Кого она отмаливает? Разве старик не видит, что он жив?
Старик отворачивает ком земли и сталкивает его вниз, на живот Борисова. Разноцветные полосы плывут перед глазами Николая. Он начинает кричать, забыв о том, что у него нет голоса. Старик продолжает свою тяжкую работу. Николай силится поднять руки, столкнуть навалившуюся на грудь землю, но руки свело, и они не шевелятся.
А старуха молится все неистовей, припадая лбом к сырой земле, и по ее морщинистым щекам бегут слезы.
Последним усилием Борисов чуть приподнял руку и тут же уронил ее.
Старик недоуменно посмотрел на него, потом бросил лопату и тяжело слез в яму. Склонился над Николаем, коснувшись своей лешачей бородой его лица. От бороды пахло табаком и еще чем-то кислым, домашним.
Николай задохнулся и в какой уж раз потерял сознание.
5
Первое, что увидел Николай, проснувшись, были огромные женские глаза. Казалось, целый мир, окруживший его своим приютом, уместился в серой бескрайности этих глаз, в их чуткой, настороженной глубине и трепетном волнении за него, воскресшего к жизни. Тихим материнским счастьем светились эти незнакомые глаза, обрамленные светлыми длинными ресницами. На немом языке они говорили Николаю о радости, которую он доставил своим пробуждением.
Николай улыбнулся слабой, бесцветной улыбкой. Глаза вспыхнули и как бы высветили все лицо. Высокий гладкий лоб, наполовину прикрытый спадавшей на него желтоватой челкой. Тонкая морщинка, почти невидимой дужкой пролегшая по переносице. Короткий вздернутый нос с дрожащими ноздрями. Припухлые розовые губы и гладко выточенный капризный подбородок. Все это светилось и жило тем необъяснимым чувством довольства и гордости, которое может испытать лишь человек, свершивший почти невозможное.
На самом деле так оно и было. Николай четверо суток метался в бреду. Несколько раз у него пропадал пульс и прекращалось дыхание. В такие минуты вся семья Марюхиных впадала в отчаяние. Агафья Федоровна застывала в углу перед божницей. Ее несвязное бормотание наполняло избу унылой и безысходной тоской. Прохор Игнатьевич, вот уже несколько дней забывающий расчесать бороду, бежал к соседям, приносил все новые пучки лекарственных трав, принимался готовить отвар и поить им не приходящего в сознание командира. А их дочь, Анфиса, не отходила от постели больного даже ночью, дремала, приткнувшись головой к спинке его кровати.
Их старания и заботы не пропали даром. В конце четвертых суток Николай перестал бредить и впервые уснул глубоким спокойным сном. И вот он проснулся. Его изможденное продолговатое лицо было еще бледно, темные глаза запали, нос заострился, щеки заросли щетиной. Зато теперь можно было уверенно сказать – он жив, и дело времени – поставить его на ноги.
– Вы кто? – спросил он еле слышно, и глаза его увлажнились – он спросил тихо, но совершенно осмысленно.
– Молчи, все узнаешь, – сказала Анфиса и поднялась. – Тебе надо выпить лекарство.
Она пошла в запечье, принесла стакан с коричневатой жидкостью.
– Сушеный шиповник с медом, пей.
Напиток был кисловатый и тягучий, Николай почувствовал себя бодрее.
Подошел Прохор Игнатьевич, обнажил ровный ряд нестариковских белых зубов.
– Очухался? Ну, вот и ладно, вот и добро! А то ведь совсем было богу душу отдал. Теперь до смерти проживешь, ежели, не приведи господи, попрежь ничего не приключится. Ей вот, Анфиске, спасибо кажи, вызволила от неминучей…
– Ба-атя! – урезонила его молодая женщина. – Время, что ль, не будет?
– Ну ладно, ладно, учи отца-то! – совсем не сердито отговорился Прохор и отошел к столу, взялся за валенок с наживленной подошвой. – Поди-ка на погребец, молока свежего принеси, от всякой хвори лучшая помочь.
Анфиса вышла в сени.
Николай огляделся. Просторная изба с бревенчатыми не штукатуренными стенами. Бревна оструганы до блеска и, наверное, недавно вымыты с мылом, отдают темноватой желтизной и пахнут сосновой смолой. Добрую четверть избы занимает русская печь с двумя приступками и недавно замененной грядушкой – брусок не успел потемнеть и залосниться. Над запечьем – полати, зашторенные простенькой выцветшей занавеской. Широкая выскобленная судновка с горкой алюминиевых мисок и чугунков. На полице неполная бутылка подсолнечного масла и половина каравая ржаного хлеба с черной поджаристой коркой. Из подпечья торчат деревянные черенки рогачей и кольчатый конец металлической кочерги. Порог и пазы дверных косяков обиты сторновкой, свернутой в жгут и обмотанной пеньковой веревочкой. Два окна, выходящих на улицу, и третье – во двор – ничем не завешены, на уличных подоконниках плошки с какими-то высокими голенастыми цветами.
Посредине избы – грубо сколоченный не накрытый стол, наверное, изделие самого Прохора, лавки углом подле него и старенький табурет. На стенах высокого дощатого потолка затаились кудельки паутины. Вот и все убранство, не считая еще кровати, на которой лежит Николай, соломенного матраца, что под ним, да свежевыстиранной дерюжки, в которую он закутан. Зато как мило, как с детства привычно, по-родному вкусно пахнет поднимающимся тестом! Дежка, конечно, стоит на полатях, за занавеской. Каким привычным житейским покоем веет от согбенной над немудрящим чеботарским инструментом фигуры старика, от его клокастой нечесаной бороды, от размеренных и точных ударов молотка по березовым гвоздикам, которые он берет из губ и заколачивает в подошву валенка! Сразу в памяти встает родное село Кичанзино, теперь такое далекое, будто не существовавшее детство с нечастой, неумелой лаской отца, с кротким, застенчивым укором матери, с бестолковым гомоном старших сестер и братьев.
– Отец! – позвал Николай.
– Ась! – Прохор встал, подошел к кровати.
– Где я нахожусь?
Старик испытующе посмотрел на него своими узкими, прищуренными глазками.
– У добрых людей, сынок. Марюхины мы. Я – Прохор, по отцу Игнатьич, старуха моя, Агафья Федоровна, да вот дочь приходит, Анфиска. Она вообче-то отделенная, своей хатой живет, а сейчас за тобой доглядала, тут была. Ну, а деревня наша Марково называется.
– Где она?