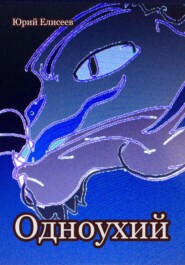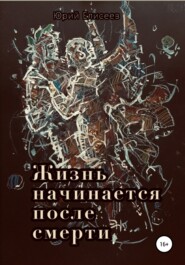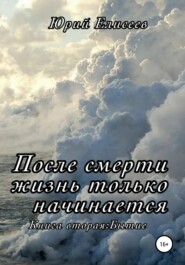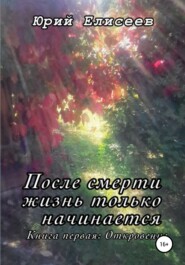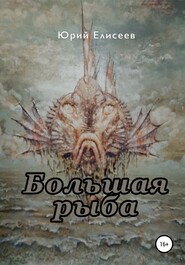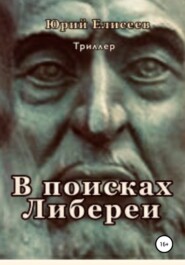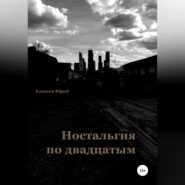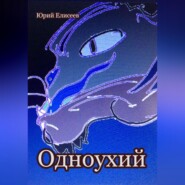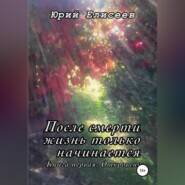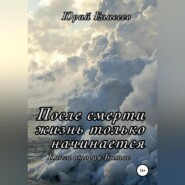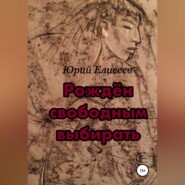По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Оглянитесь сотник Черкашин
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Михаил вздохнул свободно. Вечером он отправился прогуляться по станице и посетить самые компетентные сборища, где можно было услышать последние новости. Там он узнал следующее: сразу после обеда в станицу прискакали четверо чеченцев, крича что у Терека зарезан Ахмад Даурбеков, и что они, четверо его братьев объявляют себя, один за другим, «кровниками» убийцы. Услышав это Михаил почувствовал, как по телу пробежал холодок, и когда Иннокентий Замятин, спросил, не его ли видел с утра на дороге к Тереку, он поспешил отказаться, и отправившись домой, объявил Марии, что ему надо срочно съездить во Владикавказ на ярмарку. Всю ночь он не спал, ему казалось, что братья уже взяли след и сжимают кольцо поисков. К утру, так и не заснув, Михаил поднялся с постели, посмотрел на зарождавшийся день и начал собирать вещички. Настроение было поганым: осознание, что ему приходится бежать, как зайцу, угнетало его, он не знал как реагировать на создавшуюся угрозу. Пока седлал лошадь, встала жена. Остановившись возле конюшни Мария без предисловий продолжила вчерашнюю тему:
– Не пойму, что за блажь: ехать вот так, с бухты-барахты, не предупредив заранее, не собравшись по-человечески.. – выговорившись, Мария сделала паузу, ожидая ответных слов, но Михаил молчал, делая вид, что сильно занят сбруей.
– Что так и будешь молчать? – не выдержала жена. – Скажи хоть что-нибудь!
Михаил понял, что жена не отстанет.
– Седло мне новое надо, порох, пули на исходе.. черкеску видела? Новую надо. Тебе что-нибудь куплю, детям..
– Ладно. – Мария поняла, что переубедить мужа не удастся. – Пойду еды в дорогу соберу..
«И Михаил уехал», – завершил первую часть своего рассказа прадед. Он прикрыл глаза и, толи ушёл в свои воспоминания, толи снова заснул. Филя толкнул прадеда в коленку.
– Так что там было дальше?
Прадед вздрогнул.
– Что, что такое..
– Я говорю, что дальше… – повторил Филя.
– Ну да, во Владикавказе Михаил, купил всё что было нужно и через три дня вернулся домой. Только он заехал во двор, как, по лицу жены понял, что произошло самое плохое.
– К тебе были гости. – сдавленным от обиды голосом сообщила она. – Просили передать чтобы ты в пятницу один приехал к Тереку биться со старшим Дорчи Даурбековым. Он тоже будет один. Если не придёшь они вырежут всю семью.
– Что-то быстро они нашли меня. – сказал задумчиво Михаил. Он слез с коня и отвёл его в конюшню. Здесь его осенило: – «Это удочка! Все знают, что такая только у Алёшки: наборная, резная..» Он обернулся к Марии.
– После завтра я встречусь с ними. Поговорим.
Мария заплакала.
– Ты уже поговорил. Чёрт проклятый! Что же теперь? – запричитала она переходя на рёв. Он обнял жену.
– Прости, так получилось: там, или он, или я. По другому – никак.
Как сказал, таки сделал. В пятницу на рассвете спустился он к Тереку, где его уже поджидал закутанный в башлык Дорчи Даурбеков. Михаил остановил коня и оглядевшись, заметил на другом берегу троих всадников. Это явное нарушение договоренности не понравилось Михаилу и он крикнул стоящему напротив чеченцу:
– Это так ты держишь договор? – Он указал на берег и добавил. – Вас четверо против одного.
Дорчи усмехнулся:
– Мне не нужны братья, чтобы справиться с тобой, гяур. Я один стою десятка таких как ты. Я убью тебя быстро и брат будет отомщён.
Михаил улыбнулся, вспомнив бахвальство Ахмада. Он поправил саблю и сказал:
– Я уже слышал это. Давай уже к делу.
– Держись гяур! – крикнул Дорчи, и выхватив кривую саблю, поднял коня на дыбы. Михаил, приподнявшись на стременах, бросился ему навстречу. Сойдясь, они рубились неистово. Два раза Михаил был на волосок от смерти: сабля чеченца в одном случае, соскользнув с клинка Михаила, ударила его по голове и только папаха, разрубленная до подкладки, спасла ему жизнь. Второй раз, уже лишившись папахи, ему чудом удалось пригнуться и сабля, отхватив половину чуба, пролетела мимо. Как говорится, судьба даёт шансы всем одинаково, и свой шанс Михаил использовал верно. Когда, не достав Михаила, Дорчи провалился, оказавшись к нему спиной, тот, не веря своей удаче, одним махом, отрубил ему голову. Она свалилась вместе с папахой, покатилась по траве, и сделав несколько оборотов, остановилась у края берега. На той стороне раздались крики проклятий, братья, направив своих коней в воду, стали медленно пресекать Терек. Михаил понял, что пора отступить. Он повернул коня, и под вой дважды оскорблённых Даурбековых, поскакал в станицу.
– Деда, они его не догнали? – спросил Филя.
– Нет, внучок. Он был настоящий герой, а настоящего воина в бою не одолеть. Его можно только со спины взять. Даурбековым чести хватило не надолго. Однажды вечером, когда он возвращался после сенокоса, они подкараулили его в лесу к северу от станицы.
Зелимхан, старший из оставшихся братьев, спрятавшись за кустами, выстрелил в казака и пуля угодила Михаилу в спину. Он упал навзничь, и чувствуя онемение в груди, попытался дотянуться до карабина, но конь, испугавшись выстрела, дёрнулся и понёсся вперёд, отчего оружие отбросило к задней стенке телеги. Братья догнали взбесившуюся повозку на краю леса и тот же Зелимхан, схватив под уздцы, осадил коня. Михаил был ещё жив, он всё видел, но не чувствовал: Зелимхан склонился над ним, достал свой кинжал, схватил его за волосы, и глядя в глаза, сказал: – «Сдохни, гяур. Теперь мои братья отомщены». Вот такая история внучок. Кровная месть – закон Кавказа.
– Он убил его? – спросил потрясённый Филя.
– Да, отрезал голову.
Патриарх вдруг засуетился, схватил свою клюку, попытался приподняться, но, внезапно стих умиротворённый и сел обратно, на лице его отразилось благостное выражение, и Филя почувствовал запах мочи.
– Всё равно не добежал бы… – словно оправдываясь, пояснил, произошедший казус прадед. – Пойду сменю портки.
Глава 10
Как и было приказано, через три дня, Савелий уехал из Червлёной. Его прикомандировали к роте драгун, которые, после короткой остановки в станице, продолжили свой путь на Линию. Савелий пристроился в конце колонны, среди пушек и полевой кухни и всю дорогу размышлял о создавшейся ситуации. Он вспоминал напутственные слова атамана: – «Поезжай, служи спокойно, а здесь мы тебя прикроем». Атаман рассказал, что чеченцы прислали своих дознавателей и среди них был оставшийся в живых молодой чеченец. Савелий с сожалением подумал о жене: только-только всё наладилось и чувства между ними стали такие же, как в первые месяцы, так нет же… Чувство досады переполняло душу. Временами ему хотелось развернуться и поехать домой, но каждый раз, перед глазами всплывало строгое лицо атамана и это обстоятельство удерживало от необдуманного поступка. Не торопясь, походной рысцой, всадники двигались вперёд, поднимая пыльную завесу, которая медленно плыла за колонной и оседала на придорожный бурьян. К обеду за плечами остались левобережные Калиновская, Микенская, Наурская . У Ищёрской сделали небольшой привал и следующим переходом прибыли на место. В Моздоке, Савелий, первым делом, посетил казармы Терского полка, где передал вахмистру Жарову письма для станичников. Тот определил его на ночёвку в артиллерийскую роту, а на завтра посоветовал, не мешкая, примкнуть к хозяйственной команде, которая отправлялась во Владикавказ. В роте приняли его с интересом, освободили место возле костра, дали котелок каши и стопку чачи: здесь любили новые истории и видимо ждали от него откровений. Горячая каша и чача, развязали язык и Савелий, во всех подробностях, поведал обществу эпизод геройского наскока на отступавшие войска персов, за который был награждён карабином и отпуском в родные места. Артиллеристы одобрительно закивали, один из них, серьёзного вида ветеран, откашлялся, вытер усы и произнёс: – «А вот что я вам расскажу про геройские подвиги. Дело было в последнюю турецкую. В начале компании 1791 года русским войскам было приказано развернуть боевые действия за Дунаем. Наша рота под командованием капитана Левтова, в составе лейб гвардии Гренадёрского полка, с семью фальконетами и пятью «единорогами», двигалась по левому берегу Дуная. Как сейчас помню колеса нашего «единорога», окрашенные в зелёный цвет, они оставляли глубокий след в бессарабской грязи, вынуждая нас, идущих следом, то и дело спотыкаться и проваливаться в колею. После проливных дождей, земля, превратившись в месиво, серьёзно мешала продвижению войск, но не смотря на это, угроза обхода Турецких войск становилась всё очевиднее. Стремясь помешать этому турки выдвинули в район Манчина и Бабадага огромное 80-ти тысячное войско, которым командовал великий визирь Юсуф-паша. С нашей же стороны ему противостоял любимец солдат генерал Репнин. Видя намерение Юсуф-паши помешать продвижению войск, Репнин решил упредить турок и нанести удар по 30-тысячной мачинской группировке. Наши войска в составе трёх корпусов 7 июля 1791 года переправились через Дунай у Галаца. Задача правого фланга заключалась в демонстрации активности перед фронтом противника. Левый фланг Кутузова должен был нанести главный удар по правому флангу противника». – Глаза ветерана горели, когда он в свете костра чертил обугленной палкой расположение войск. – «Корпус в центре должен был прикрывать фланги российской армии. Наша батарея стала на холме между уланским полком подполковника Гурвича и нашим гренадерским. Лошадей и повозку с ядрами, как и положено, отвели чуть поодаль, а сами разобрались по номерам. Ждали. Ночью, совершив тридцати двух вёрстный марш-бросок с левого фланга, несколько корпусов Кутузова, на рассвете, развернулись, и объединившись с войсками Репнина, начали масштабное наступление на турок. Пытаясь удержать русских, Турецкие войска ударили по флангам. Нас атаковала турецкая конница Керим-бея и сразу попала в зону поражения наших «единорогов». Уланы ударили туркам во фланг, и те, получив небольшой урон, отступили. Стало ясно, что манёвр с конницей был разведкой. На смену ей появились янычары, которые с трёх сторон, как тараканы поползли на нашу батарею. Начался обстрел и нас обрушился огонь турецких пушек. Надо признать, что турецкие артиллеристы-гумбарачи били весьма точно. За полчаса налёта наши батарейцы недосчитались трети своего состава. Досталось и уланам: подполковник Гурвич был смертельно ранен, а десятая часть полка полегла от шрапнели. Янычары, воспользовались замешательством, атаковали холм, где находилась батарея. Гренадёры некоторое время сражались, в надежде на помощь улан, но увы, тоже вынуждены были отступить. Следом за ними, бросив двенадцать пушек, отступили и мы. В это время смертельно раненый Гурвич, чувствуя, что умирает, призвал подчинённых идти вперёд и отбить батарею. Тогда штабс-капитан Арнаутов, принял командование над уланами, которые, горя священной местью, пробили неприятельские ряды и ворвались на батарею. Турки, не ожидавшие такого наскока, пытались ожесточенно сопротивляться, но были безжалостно уничтожены. Вернувшись в расположение батареи, мы нашли изрубленные тела, валяющиеся в лужах крови головы турок, с широко открытыми глазами, разорванные в клочья трупы лошадей, разбитые повозки и разбросанные взрывом ящики с зарядами и ядрами. Я уже многое повидал к тому времени, но этот ужасный итог бомбардировок поразил меня весьма сильно. Запах крови, смешанный с запахом пороха на фоне картины похожей на сюжет страшного суда, вывернул всё моё естество наружу и, как я понял, не меня одного. Только хладнокровный капитан Левтов, как ни в чём не бывало, дождавшись пока мы прийдем в себя, приказал разобраться по номерам и ждать. Сам же встал на краю холма и, не обращая внимания на свистевшие осколки и пули, осмотрев поле боя, подозвал командиров орудий и указал на цели бомбардировок. Батарея заработала. Точными выстрелами нам удалось разметать орудия врага и помешать быстрому рейду сипахов, элитных конников охраны Осуф-паши. Конница сипахов замешкалась, элемент внезапности был утерян, что позволило егерям, которых атаковала конница, вовремя перегруппироваться. Несколько раз за время боя батарея подверглась атакам турок, что лишний раз доказывало значимость нашего холма в сценарии сражения. Мы выстояли. Бой продолжался 6 часов, после чего стало ясно, что 80-ти тысячная армия турок потерпела сокрушительное поражение. Эта победа, вместе с разгромом турецкой флотилии адмиралом Ушаковым, в августе 1791 года, ускорила завершение войны и подписания Ясского мирного договора». – ветеран закончил своё повествование и оглядел слушавших его солдат. Савелий встретился с глазами артиллериста и поразился: в глазах его, он увидел неизбывную гордость за русские пушки, за славу русского оружия и твёрдую решимость сокрушить любого врага.
Наутро Савелий, перебравшись через Терек, помахал на прощание казакам следившим за безопасностью моста и лёгкой рысцой отправился по военно-грузинской дороге. К обеду, проехав чуть более семидесяти вёрст, он прибыл в крепость Владикавказ. В канцелярии объединённых войск штабной писарь был удивлён столь ранним возвращением казака и даже попытался пошутить на этот счёт. Когда Савелий объяснил шутнику, куда засунуть свой язык, игривость канцелярского сразу поутихла. Отметившись таким образом, Савелий некоторое время болтался по крепости изнывая от скуки. Он решительно не знал чем заняться. Несколько раз он охотился в окрестностях лысой горы, но без особого успеха, пока в один из вечеров не наткнулся на компанию молодых военных, отдыхавших в обществе дам на природе. Увидев бравого казака с дорогим оружием, один из участников пикника пригласил Савелия присоединиться к веселью. Он представился Амраном и, как позже узнал Савелий, являлся отпрыском князя Хоты Хетагурова. Будучи наследником богатого батюшки, Амран сорил деньгами и устраивал шумные попойки на лоне природы. Начальство крепости смотрело на сие безобразие сквозь пальцы, так как получало щедрые подношения в виде вина и продуктов к своему столу. Савелий подозревал, что был принят в компанию «благородий» за геройский вид и желанием выудить из него несколько душещипательных историй. Совсем молоденький подпоручик Тригорский, только что прибывший в крепость из Твери, смотрел на него удивлёнными голубыми глазами и приставал с расспросами о ратных подвигах. Савелий поначалу отшучивался, но поощряемый Амраном и одной из дам, откровенно делавшей ему глазки, сдался и рассказал о защите чикаанского поста. Затем, по просьбе той же дамы, поведал за что получил наградной карабин. Даму звали Анфиса, она была старшей из четырёх дочерей коменданта крепости Александра Фадеевича Коровина, и являлась одной из причин его упорного нежелания замечать гулянки молодого Хетагурова. Обычно Амран нанимал местного духанщика, отправлял его с помощниками вперёд с провизией на место очередного выезда на природу. Затем гости собирались у дома Хетагурова и всей компанией на конях и колясках ехали на пикник, где их ожидали разложенные на скатертях угощения и одетая в праздничные одежды прислуга с грузинскими кувшинами и длинными бутылками шампанского. Галантные манеры «благородий», скопированные с образчиков высшего света, забавляли Савелия, которому до сих пор не приходилось бывать в столь высоком обществе. Он посмеивался, представляя себе застолье в станичной хате, где больше половины слов звучало на французском. Савелий, привыкший к ясным понятиям, однажды не выдержал, витиеватых рассуждений Анфисы о долге и патриотизме женщин, и посмеявшись над её фантазиями, просто и уверенно заключил, что женщинам не место на войне. Анфиса вспыхнула, отпарировала, что она имела в виду не селянок, с коими казак имеет дело, а женщин своего круга. Указав, таким образом, где его место, она обратила свои чары на молодого подпоручика. После неловкой паузы, которая сразу затронула всю компанию, казак почувствовал некую перемену перемену к своей особе: взгляды, до того заинтересованные, стали скучными, теперь никто уже не глядел в его сторону – все будто забыли о нём. Савелий понял, что пора ретироваться. Он встал, и откланявшись, произнёс совсем глупую фразу: – «Благодарю за компанию, мне пора – дела». На этом закончилось его знакомство с местным бомондом.
Через два дня прибыли из отпуска казаки: к обеду братья Сальковы и Камнев из Каргалинской, следом трое из Старогладовской, ещё трое из Наурской, Лыков и уже к вечеру появились Земсков из Ищёрской и Куркин из Калиновской. Казаков снабдили фуражём, продуктами, порохом, пулями и приказали сопроводить торговый обоз вместе с двумя фельдъегерями в Тифлис. Утром следующего дня большой обоз из двадцати подвод с двумя взводами обслуги, конными фельдъегерями и гребенцами в качестве охраны, выехали из ворот крепости и неспешна двинулся к Дарьяльскому ущелью. Многое изменилось в этих местах. С тех пор, как Савелий, в составе конвоя Генерал-лейтенанта Кнорринга, первый раз пересёк Большой Кавказский хребет прошло больше трёх лет. За это время успела смениться высшая власть в России, ушёл с должности Кнорринг, князь Цицианов твёрдой рукой навёл порядок в Картли-Кахетинском царстве, в результате чего, грузины и осетины стали спускаться с гор под защиту трехцветного флага. Порядок на военно-грузинской дороге постепенно обретал реальные черты: работали команды по уборке завалов, лавин и селей, повсеместно ремонтировались дороги, в селениях создавались почтовые пункты, где можно было сменить лошадей и переждать непогоду. Местные князьки, получив привилегию взимать плату за проезд, старались содержать дорогу в рабочем состоянии. Савелий удивлялся продуманной политике так основательно изменившей жизнь здешних людей. В деревне Чим уничтоженной терцами, вновь обосновались осетины, под крылом молодого Дударова. Его отца-разбойника, после сдачи замка, угнали под конвоем в Моздок, где, после справедливого суда, повесили. Савелий вспомнил, что ещё не так давно, возвращаясь из Грузии и мыслями находясь уже в родных местах, он не обратил внимания на происходящие здесь изменения: сейчас, проезжая лихие места, он, словно заново, знакомился с новыми порядками.
Преодолев без приключений Дарьяльское ущелье, первую остановку караван сделал в Казбеги. Казаки расседлали коней, дали им корм и отдых, обозники занялись колёсами, которые в дороге пришли в негодность. Начальник обоза интендант-вахмистр Абасов, бегал меж телег и орал на солдат, которые в ответ разводили руками, уверяя, что накануне всё было в порядке. Заменив поломанные колёса, они проверили мешки с мукой и солью, тюки с амуницией, ящики с боеприпасами, затянули потуже крепёж и только тогда смогли отдохнуть сами. Отдохнув два часа, участники похода двинулись дальше, наверх к Крестовому перевалу, названному в честь Крестовой горы, по склону которой шла дорога. Здесь издревле стоял крест, установленный, по преданию, Давидом строителем. Проезжая мимо сакрального символа, путники творили крестное знамение, благодаря господа за преодоление опасного отрезка пути. Дальше дорога лежала вниз к селению Пасанаури расположенному на южной стороне Большого Кавказского хребта, где караван мог заночевать в специальной почтовой станции. Под горку, почти бегом, преодолев 40 вёрст, поздно вечером караван достиг цели. Станция представляла из себя просторный двор расположенный на берегу Белой Арагви, огороженный с трёх сторон крытыми сараями из плоского сланца. Смотритель, пожилой грузин долго смотрел на расположившийся посреди двора обоз, на солдат и казаков деловито управлявшихся с конями, затем, увидев погоны вахмистра, с сильным акцентом горца спросил:
– Послушай русский, зачем сюда приехал? Есть другие станции. У меня нет столько места, нет еды, нет соломы.. нет воды..
Абасов хитро улыбнулся, и указав на реку, сказал:
– Согласен генацвале, твоя вода всё время утекает, но я вижу, в твоих садках, твоя рыба остаётся.
Грузин нахмурился, но промолчал. Он кинул руку в знак приглашения: видимо вспомнил, что обязан предоставить кров и крикнул что-то по грузински. Тут же из дома выбежала женщина с кувшином воды и, быстро семеня ногами, приблизилась к гостю. Вахмистр с поклоном принял протянутый кувшин, и приложившись, сделал несколько больших глотков.
– Хороша водица!
Это прозвучало как команда. Казаки похватали под уздцы своих коней и отправились к реке. Пока Савелий набирал воду, в надвигающихся сумерках, заметил, что внимание казаков приковано к садкам, где утомлённо плескалась рыба. Это была речная форель частая гостья в этих краях.
– Вот бы сейчас на вертел её, да в уголья…– мечтательно и тихо произнёс младший Сальков.
– Не то, – возразил старший Егор, – вахмистр не позволит.
– А что нам вахмистр, пусть он своих увальней окорачивает.– Возразил Камнев. – А нам неча указывать.
– Как у меня слюна пошла… – взмолился младший Сальков. Он запустил руку в садок и вытащил рыбину размером по локоть . – Давайте быстро сумку их здесь уйма.
Воровство не удалось пресечь. Сумку погрузили на Кума, жеребца старшего Салькова и, стараясь быть незаметными, вернулись к месту казацкого бивака. Запалили костёр, подвесили котелок на таганок, насадили на шомпола рыбу и стали ждать углей, пряча хитрые рожи и блестящие глаза от проходящих мимо непосвящённых.
Тем временем в доме смотрителя, где остановился вахмистр, наметилась нездоровая активность. Вернувшийся с реки хозяин, с такой досадой хлопнул дверью, что она подпрыгнула, и перекосившись, повисла на одной петле. Внутри раздались возбужденные крики, после чего из дома вышел возбуждённый вахмистр и, в сопровождении расстроенного смотрителя сразу направился к костру обозников. Каменев быстро сориентировался, похватал шомпола с рыбой и перекинул их через булыжную стену. Казаки с неподдельным интересом наблюдали за действиями вахмистра, который осмотрев вещи и амуницию солдат, поглядел на фельдъегерей, расположившихся особняком и направился к Линейцам.
– Отдыхаем.. – начал издалека интендант, обойдя собравшихся вокруг костра, продолжил,– а тут на вас жалоба образовалась, – он потянул носом, но не учуяв жаренного, продолжил почти ласково. – Сумки, мешки с продуктами к досмотру. Живо!