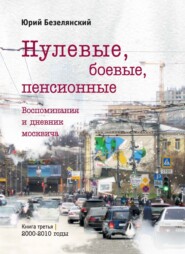По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
И плеск чужой воды… Русские поэты и писатели вне России. Книга вторая. Уехавшие, оставшиеся и вернувшиеся
Жанр
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И тому же Лившицу: «…Жить здесь в смысле индивидуальной свободы превосходно, но мы – из России – тоскуем по ветру больших мыслей и больших страстей…»
И радостное сообщение, что возвращается, едет в Варшаву, «а оттеда через небезызвестную Шепетовку в Киев…».
Ах, Шепетовка, ах, Киев, ах, ветры больших мыслей и больших страстей. До гибели Бабеля оставалось меньше 12 лет…
Бабель неустанно работает. Знаменитые рассказы «Фраим Грач», «Ди Грассо», драма «Закат», пьеса «Мария». Сочиняет для кино. Задумал повесть «Коля Топуз» и роман «ЧеКа» – тянуло к гибели…
Надежда Мандельштам вспоминала: «Осип заинтересовался, почему Бабеля тянет к “милиционерам”. Распределитель, где выдают смерть? Вложить персты? – Нет, – ответил Бабель, – пальцами трогать не буду, а так потяну носом: чем пахнет?»
Читатели требовали от Бабеля повторения успеха «Конармии», но такого успеха уже не могло быть. Он мало находился дома, колесил по стране. Внешне оставался веселым, а внутри души было темно и глухо. «Почему у меня непроходящая тоска? Разлетается жизнь, я на большой непроходящей панихиде», – записал Бабель в дневнике. После убийства Кирова по стране зашагал большой террор. То один, то другой близкий и знакомый исчезали. И в одном из писем к матери Бабель сообщал: «Главные прогулки по-прежнему по кладбищу или в крематорий». Достаточно прозрачный эзопов язык. И не случайно в одном из рассказов промелькнула пророческая фраза: «А тем временем несчастье шлялось под окнами, как нищий на заре».
Пушкинские строки «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю…» прямо относятся к Бабелю, он явно ходил по краю, когда стал посещать литературный салон своей одесской знакомой Евгении Ханютиной и соперничал в любовных успехах с наркомом НКВД Ежовым, мужем Евгении Соломоновны. Бабелю казалось, что, сближаясь с чекистским логовом, он тем самым избегает опасности. Наивное заблуждение: Бабеля пасли «органы» с 1934 года, и фиксировалось все то, что он говорил о советской власти.
За ним пришли на рассвете 16 мая 1939 года на дачу в Переделкино. Когда кончился обыск, Бабель тихо сказал жене Антонине: «Не дали закончить…». Вероятно, писатель имел в виду «Новые рассказы». «Когда-то увидимся…» – обратился Бабель к жене и исчез за тяжелыми воротами Лубянки.
При обыске в Николоворобинском изъяли 15 папок, 11 записных книжек, 7 блокнотов с записями, более 500 писем – материалы на несколько томов. Из книг, подаренных Бабелю, выдирали листы с дарственными надписями… И завели «Дело № 419», обвинили писателя в шпионаже, ну конечно, французский и австрийский шпион!..
Далее Сухановская тюрьма, пытки, выбитые показания… В апреле 39-го в Сухановскую тюрьму угодил и бывший нарком Ежов. Погибла и Евгения Ханютина.
На допросах Бабель признался в том, чего не совершал, оговорил ряд своих коллег, но потом отказался от своих показаний. Но это уже не имело никакого значения. 27 января 1940 года в 1.30 Исаака Бабеля расстреляли, а его останки кремировали. Был человек – нет человека. Творил писатель – и больше уже ничего не сочинит.
Вдове в течение долгих лет на все ее запросы о судьбе Бабеля отписывали: «Жив. Здоров. Содержится в лагерях». А потом Бабеля реабилитировали: невиновен! Вернулись книги. Первое издание «Избранного» Бабеля появилось в 1957 году. И те, кто не знал творчества Бабеля, воскликнули: «Какой мощный стилист!» Кстати, сам Бабель как-то написал Паустовскому: «Стилем-с берем, стилем-с. Я готов написать рассказ о стирке белья: и он, может быть, будет звучать, как проза Юлия Цезаря».
В 1946-м Иван Бунин в Париже беседовал с кем-то из сталинских эмиссаров: «Скажите, вот был такой писатель – Бабель. Человек бесспорно талантливый. Почему о нем ничего не слышно? Где он теперь?»
Интересный вопрос: где? В сталинскую эпоху отправляли на смерть и в забвение не только писателей, но сподвижников самого вождя, к примеру, в какой-то момент Сталин хотел зачеркнуть и маршала Семена Михайловича Буденного. Того, кто прославился в Гражданскую войну и ответил на вопрос: «Вам нравится Бабель?» – «Это смотря какой бабель», – усмехнулся маршал. И вот к нему на дачу поехали чекисты с ордером на арест. Когда Буденный их увидел у ворот, он бросился к телефону звонить в Кремль: «Иосиф! Контрреволюция! Меня пришли арестовывать! Живым не сдамся!» Затем выставил пулемет «Максим» и приготовился отразить вторжение. Чекисты отступили, и маршала после этого случая оставили в покое.
Бабель не был маршалом, и у него не было пулемета. И он спокойно отдал себя в руки судьбы.
И последнее. Внук Бабеля – Андрей Малаев-Бабель – прозаик, режиссер, педагог, профессор университета в штате Флорида, США, в отличие от деда, не такой любознательный и не лезет к краю пропасти, в бездну на краю, а скромно делает то, что ему нравится, и, в частности, фильмы и спектакли, посвященные деду – Исааку Бабелю. Кстати, на обложках всех прижизненных книг писателя значится: Иван Бабель. Бабелевский розыгрыш?..
Борис Пильняк – одинокий волк Октября
Ровесник Бабеля – Пильняк. Прозаик совершенно иного стиля, но та же ужасная судьба: не раз имел возможность остаться за рубежом, но ею не воспользовался, не остался, не захотел стать эмигрантом. И после очередного вояжа на Запад возвращался. Истый возвращенец. А в итоге погиб в сталинской мясорубке.
Борис Андреевич Пильняк (настоящая фамилия Вогау; 1894, Можайск – 1938, расстрел). Отец – земский врач из немцев-колонистов, мать – русская, из купеческой семьи. В 1913 году окончил реальное училище в Нижнем Новгороде, а в 1920-м Московский коммерческий институт (нынешняя Плехановская академия). Писать начал рано – в девять лет. Однако началом своей литературной деятельности писатель считал 1915 год, когда появились его первые рассказы под псевдонимом Б. Пильняк. Первая книга «С последним пароходом» вышла в 1918 году. Пильняк считал себя учеником Алексея Ремизова: «Мастер, у которого я был подмастерьем».
В рассказе «Расплеснутое море» (1924) Борис Пильняк признавался: «Мне выпала горькая слава быть человеком, который лезет на рожон. И еще горькая слава мне выпала – долг мой – быть русским писателем и быть честным с собой и Россией».
Он и имел горькую славу. Был честен. Лез на рожон, за что и поплатился своей жизнью.
Писательский взлет Пильняка пришелся на революцию, которая дала новые темы и новую авангардную манеру письма (ритм, динамика, осколочность и эскизность текста). Недаром Пильняк однажды высказался по поводу Максима Горького: «Хороший человек, но – как писатель устарел». Широкую известность Пильняку принес роман «Голый год» (1921). Маститый критик Вячеслав Полонский писал: «Вряд ли другой советский писатель вызывал столь противоречивые оценки, как Пильняк. Одни считают его не только писателем эпохи революции, но и революционным писателем.
Другие, напротив, убеждены, что именно реакция водит его рукой. В таланте Пильняка мало кто сомневался. Но его революционность вызывала большие сомнения».
Николай Тихонов не без зависти написал о Пильняке: «Верховодил в литературе… занял место первого трубача революции своими романами». Нет, никаким трубачом Пильняк не был. Он был писателем-аналитиком и пытался разобраться в политических и социальных процессах, происходящих в новой России. Он не «слушал музыку революции», он ее анатомировал и поэтому пристально присматривался к большевикам, «кожаным курткам», – кто такие и откуда (это уже потом Булат Окуджава придумал другое определение – «комиссары в пыльных шлемах»).
«…В исполкоме собирались – знамение времени – кожаные люди в кожаных куртках (большевики!) – и каждый в стать, кожаный красавец, каждый крепок, и кудри кольцами под фуражкой на затылок, у каждого больше всего воли в обтянутых скулах, в складках губ, в движениях утюжных, – в дерзании. Из русской рыхлой корявой народности – лучший отбор. И то, что в кожаных куртках, – тоже хорошо: не подмочишь этих лимонадом психологии, так вот поставили, так вот знаем, так вот хотим, и – баста!» («Голый год»).
В этом своевольном, ницшеанском «баста!» никакой апологетики, никакого восхищения, а выражение сути «кожаных курток».
В книге «Отрывки из дневника» (1924) Пильняк открыто декларирует:
«Я не… коммунист, и поэтому не признаю, что я должен быть коммунистом и писать по-коммунистически, – и признаю, коммунистическая власть в России определена – не волей коммунистов, а историческими судьбами России, и, поскольку я хочу проследить (как умею и как совесть моя и ум мне подсказывают) эти российские исторические судьбы, я с коммунистами, т. е. поскольку коммунисты с Россией, постольку я с ними, признаю, что мне судьбы Р.К.П. гораздо менее интересны, чем судьбы России…»
Пильняка действительно мало волновали всякие идеоло-гемы, он был просто русским писателем, таким, как Чехов, Борис Зайцев, Бунин, но без этих мотивов печали и пессимизма. Пильняк был более оптимистичным и светлым в восприятии жизни. Хотя в своем знаменитом романе «Машины и волки» (1924) он достаточно мрачен и пишет о волчьей России, что «вся наша революция стихийна, как волк», что дало повод современникам сказать, что по Пильняку выходит, что главный герой Октября – волк. Тут следует отметить, что образ волка, который олицетворяет, с одной стороны, жестокость по отношению к своим жертвам, а с другой – он сам является жертвой (известная формула – палачи и жертвы), привлекал не одного Бориса Пильняка. К теме волка обращались и Есенин, и Мандельштам, и Высоцкий («Идет охота на волков..
Некоторые литературоведы считают, что революция поманила Россию к смерти (в марте 1918 года Пильняк признавался: «…Манит полая вода к себе, манит земля к себе с высоты, с церковной колокольни, манит под поезд и с поезда». И это не могло не отразиться на прозе писателя. «Голый год» точно отразил дух распадающегося, разнуздавшегося времени.
В книге «Литература и революция» (1923) Лев Троцкий писал:
«Борис Пильняк, Всеволод Иванов, Николай Тихонов и “Серапионовы братья”, Есенин с группой имажинистов, отчасти Клюев были бы невозможны – все вместе и каждый в отдельности – без революции. Они это сами знают и не отрицают этого… Они не художники пролетарской революции, а ее художественные попутчики… Относительно попутчика всегда возникает вопрос: до какой станции?..»
Да, Пильняк был всего лишь попутчик и пытался шагать в ногу с новой властью, но при этом старался не слишком испачкаться прислуживанием ей. Когда осенью 1929 года Пильняка «громили «всем колхозом», один из погромщиков, Д. Горбов, отмечал: «Пильняк очень долго жонглировал такой ценностью, которой жонглировать нельзя. Он жонглировал званием советского писателя. Жонглировал и в конце концов его уронил. Он хотел стать над событиями…»
В 1922 году Пильняк одним из первых советских писателей посетил Германию. Туда он привез рукописи советских писателей для русских издательств. Эмиграция приветствовала Пильняка как представителя новых писателей, «родившихся в революции». Вернувшись в Россию, Пильняк писал:
«Я люблю русскую культуру – пусть нелепую – историю, ее самобытность, ее несуразность… ее тупички, – люблю нашу мусоргщину. Я был за границей, видел эмиграцию, видел туземщину. И я знаю, что русская революция – это то, где надо брать вместе все, и коммунизм, и эсеровщину, и монарховщину: все это главы русской революции – но главная глава – в России, в Москве…И еще: я хочу в революции быть историком, я хочу быть безразличным зрителем и всех любить, я выкинул всяческую политику. Мне чужд коммунизм…» (из письма 3 мая 1922 года).
В 1923 году Пильняк побывал в Англии, где убедился, как далеко ушла Европа, какой долгий путь предстоит пройти России, чтобы приобщиться к европейской цивилизации. И в связи с увиденным Пильняк все больше большевеет, и, очевидно, поэтому его спокойно посылают по всяким издательским делам за рубеж: в Грецию, Турцию, Китай, Японию, Америку и в другие страны. Пильняк много пишет, издает и при этом отмечает, что ему «выпала горькая слава быть человеком, который идет на рожон».
Запись из дневника Чуковского от 1933 года: «Был на лекции Пильняка 22/XI. Пильняк объявил по всему городу, что будет читать “Америка и Япония” Теперь, ввиду признания Америкой СССР, Америка тема жгучая, Япония тоже. Народу сбежалось множество, а он вышел на эстраду и стал рассказывать о Японии трюизмы, давно известные из газет: вулканы, землетрясения, кимоно, гейши, самураи. Публика негодовала… он не сказал ни слова об Америке…»
В романе «Машины и волки» Пильняк впал в некоторое романтическое преувеличение индустриальной мощи, ему казалось, что есть особая «машинная правда», которая позволит уйти «от той волчьей, суглинковой, дикой, мужичьей Руси и Расеи – к России и к миру, строгому, как дизель… Заменить машиной человека и так построить справедливость».
Увы, торжество техники не есть торжество человечности.
Пильняк, в отличие от многих советских писателей, поездил по белу свету и ясно видел положение вещей: что есть Запад, что есть Восток и что есть Россия, «огромная земля многих народов, ушедших в справедливость». По крайней мере, так ему хотелось думать – что Россия движется в сторону правды и справедливости.
В дневнике Корнея Чуковского можно прочитать: «Вчера был у Анненкова – он писал Пильняка. Пильняку лет 35, лицо длинное, немецкого колониста. Он трезв, но язык у него неповоротлив, как у пьяного. Когда говорит много, бормочет невнятно. Но глаза хитрые – и даже в пьяном виде, пронзительные. Он вообще жох… Со всякими кожаными куртками он шатается по разным “Бристолям”, – и они подписывают ему нужные бумажки. Он вообще чувствует себя победителем жизни – умнейшим и пройдошливейшим человеком…»
То, что легко удавалось Пильняку, никак не удавалось Корнею Ивановичу, отсюда и его едкий иронизм.
Пильняк был плодовитым писателем: был издан сначала шеститомник его произведений, а в 1929–1930 годы – собрание сочинений в 8 томах.
Но вернемся назад. 31 октября 1925 года в Солдатенковской (ныне Боткинской) больнице умер видный военачальник, председатель Реввоенсовета, нарком по военным и морским делам Михаил Фрунзе. Умер во время операции. Смерть не то по медицинским причинам, не то по политическим. В 1926-м Пильняк написал об этом «Повесть непогашенной луны», которая была опубликована в «Новом мире», и тираж номера был немедленно изъят из продажи и заменен новым тиражом, где вместо подозрительной луны Пильняка была помещена повесть малоизвестного автора «Стада аллаха». Повесть Пильняка была признана «злостным, контрреволюционным и клеветническим выпадом против ЦК и партии». Пильняка, соответственно, вывели из числа сотрудников «Нового мира», а заодно из «Красной нови» и «Звезды». Можно сказать, легко отделался.
Может быть, помогло официальное покаяние в том же «Новом мире», в котором Пильняк писал, что «ни единым помыслом не полагал, что я пишу злостную клевету. Сейчас я вижу, что мною допущены крупнейшие ошибки, не осознанные мною при написании». Выходит, наивно писал, не предполагая даже, о чем и куда целит?
1926-й не 1937-й: Пильняка простили. И разрешили ему печататься дальше. В 1929 году за границей вышла его другая повесть, «Красное дерево», переданная в Берлин официально по линии Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (БОКС), но это «Красное дерево» оказалось красной тряпкой для многих критиков автора, и на Пильняка обрушился вал ругани и брани.
Поучаствовал в травле и Владимир Маяковский (ну как же без него!): «Повесть о “Красном дереве” Бориса Пильняка (так, что ли?), впрочем, и другие повести и его и многих других не читал. К сделанному литературному произведению отношусь как к оружию. Если даже это оружие надклассовое (такого нет, но, может быть, за такое его считает Пильняк), то все же сдача этого оружия в белую прессу усиливает арсенал врагов. В сегодняшние дни густеющих туч это равно фронтовой измене. Надо бросить беспредметное литературничанье. Надо покончить с безответственностью писателей…»
И в конце: «Кто создал в писателе уверенность в праве гениев на классовую экстерриториальность?»
Никаких выходов из зоны, призывал Маяковский. Только шагать в рядах «атакующего класса», как бы говорил Владимир Владимирович и через год пустил себе пулю в лоб.
Где и у кого искать защиту от яростных нападок на явление «пильняковщины»? Конечно, в Кремле и, разумеется, у товарища Сталина. И Пильняк пишет письмо вождю: «Иосиф Виссарионович, даю Вам честное слово всей моей писательской судьбы, что, если Вы поможете мне выехать за границу, я сторицей отработаю Ваше доверие. Я могу поехать за границу только революционным писателем. Я напишу нужную вещь».