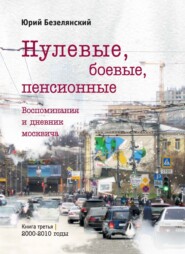По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
И плеск чужой воды… Русские поэты и писатели вне России. Книга вторая. Уехавшие, оставшиеся и вернувшиеся
Жанр
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И далее в мемуарах «Белый коридор» Ходасевич о Мандельштаме: «…И он сам, это странное и обаятельное существо, в котором податливость уживалась с упрямством, ум с легкомыслием, замечательные способности с невозможностью сдать хотя бы один университетский экзамен, леность с прилежностью, заставлявшей его буквально месяцами трудиться над одним неудавшимся стихом, заячья трусость с мужеством почти героическим – и т. д. Не любить его было невозможно: и он этим пользовался с упорством маленького тирана, то и дело заставлявшего друзей расхлебывать его бесчисленные неприятности…»
Хотя были и приятности. Однажды Ходасевич поинтересовался, что связывает Мандельштама с Гумилевым:
– А вы что делаете в «Цехе поэтов»?
– Я пью чай с конфетами, – ответил Мандельштам с обиженным лицом. Ну не бороться же с Гумилевым?!. – таков был подтекст его «чая с конфетами». Миролюбие и желание покоя? Нет, иногда Мандельштам взрывался, как вулкан, и лава слов покрывала всех разом. Так, в «Четвертой прозе» он буквально кричал:
…Я срываю с себя литературную шубу и топчу ее ногами. Я в одном пиджачке в 30-градусный мороз три раза пробегу по бульварным кольцам Москвы. Я убегу из желтой больницы комсомольского пассажа навстречу смертельной простуде, лишь бы не видеть 12 освещенных иудиных окон похабного дома на Тверском бульваре, лишь бы не слышать звона серебреников и счета печатных машин…»
«…Мне и годы впрок не идут – другие с каждым днем все почтеннее, а я наоборот – обратное течение времени, я виноват. Двух мнений здесь быть не может. Из виновности не вылезаю. В неоплатности живу. Изворачиванием спасаюсь. Долго ли мне изворачиваться?..»
В «Портретах современников» Сергей Маковский живописал Мандельштама следующим образом:
«…Беден был, очень беден, безысходно. Но, кроме стихов, ни на какую работу он не был годен. Жил впроголодь. Из всех тогдашних поэтов Петербурга ни один не нуждался до такой степени. Вообще все сложилось для него неудачно. И наружность непривлекательная, и здоровье слабое. Весь какой-то вызывающий насмешки, неприспособленный и обойденный на жизненном пиру.
Однако его творчество не отражало ни этой убогости, ни преследующих его – отчасти и выдуманных им – житейских “катастроф”. Ветер вдохновения проносил его поверх личных испытаний. В жизни чаще всего вспоминается мне Мандельштам смеющимся. Смешлив он был чрезвычайно – рассказывает о какой-нибудь своей неудаче и задохнется от неудержимого хохота… А в стихах, благоговея перед “святыней красоты”, о себе, о печалях своих если и говорит, то заглушенно, со стыдливой сдержанностью. Никогда не жаловался на судьбу, не плакал над собой. Самые скорбно-лирические его строфы (может быть, о неудавшейся любви?) звучат отвлеченно-возвышенно».
После такой оценки просятся строки поэта:
Нет, не луна, а светлый циферблат
Сияет мне – и чем я виноват,
Что слабых звезд я осязаю млечность?
И Батюшкова мне противна спесь:
Который час? его спросили здесь,
А он ответил любопытным: вечность!
Ах, эта вечность, все в ней идет по кругу. История возвращается, повторяется, и, как мученически выдохнул Мандельштам,
Все перепуталось, и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея.
Однако пора и поставить финальную точку. До сих пор архив Осипа Мандельштама не собран и разбросан по всему свету, в частности, в Армении, Франции, Германии, Израиле, США, Канаде. И сегодня вряд ли кто-нибудь удивится:
Что за фамилия чортова!
Как ее ни выкручивай,
Криво звучит, а не прямо!..
Имя Мандельштама ныне звучит везде.
Борис Пастернак: мятущийся поэт, «как зверь в загоне»
Борис Леонидович Пастернак (1890, Москва – 1960, Переделкино). Тончайший лирик, тяготеющий к философским проблемам бытия. Яркий пример человека, не захотевшего расстаться с родиной. Учился в Марбурге и имел возможность остаться в Германии и стать там ученым-филологом, но не захотел и не остался. После революции, когда многие искали спасение в эмиграции, не захотел такого спасения. А между тем его отец Леонид Осипович Пастернак эмигрировал в 1921-м, жил за границей, сначала в Берлине, потом – в Оксфорде. Борис Пастернак имел возможность воссоединиться с семьей, но вновь игнорировал такую возможность, в отличие от сестры Жозефины Пастернак (1903–1993). Сестра уехала с отцом и под именем Анны Ней опубликовала в 1938 году сборник стихотворений «Координаты».
Борис Пастернак избрал другой путь. А когда разразилась гроза из-за публикации на Западе романа «Доктор Живаго» и присуждения ему Нобелевской премии и когда власть намеревалась выслать поэта за пределы родины, то Пастернак отчаянно сопротивлялся, считая, что эмиграция – это хуже смерти. Отказавшийся от Нобелевской премии и исключенный из Союза писателей, он уединился на даче в Переделкино, где вскоре и скончался. Это если предельно кратко. А если поподробней, то…
Борис Пастернак родился в творческой семье: отец – художник, мать – пианистка. Соответственно, ему по наследству передались творческие гены. С юных лет Борис метался и несколько раз резко менял направление своих устремлений: увлекаясь музыкой, он оставил ее ради философии, а потом философию – ради поэзии. Однажды Пастернак в какой-то тоске и муке заявил: «Мир – это музыка, к которой надо найти слова! Надо найти слова!» И он их мучительно искал всю жизнь, отвергнув всякие лингвистические выкрутасы футуристов.
Марина Цветаева отмечала: «…Внешне осуществление Пастернака прекрасно: что-то в лице зараз от араба и от его коня: настороженность, вслушивание, – и вот-вот… Полнейшая готовность к бегу… Захлебывание младенца… Пастернак не говорит, ему некогда договаривать, он весь разрывается, – точно грудь не вмещает: а-ах!.. Пастернак поэт наибольшей пронзаемости, следовательно, – пронзительности. Все в него ударяет… Удар. – Отдача…тысячетвердое эхо всех его Кавказов… Пастернак – это сплошное настежь…»
Рюрик Ивнев вспоминал, что своих собеседников Пастернак «восхищал, очаровывал и утомлял, как гипнотизер, после разговора с ним человек, любивший и понимающий его, отходил, шатаясь от усталости и наслаждения, а не понимавший – с глупой улыбкой, пожимая плечами…».
Многие считали, что Пастернак – поэт даже не от Бога, а сам Бог – сочинитель, тайновидец и тайносоздатель, хотя сам Пастернак считал себя лишь свидетелем мировой истории.
Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе
Расшиблась весенним дождем обо всех,
Но люди в брелоках высоко брюзгливы
И вежливо жалят, как змеи в овсе…
А как определял Борис Пастернак поэзию?
Это – круто налившийся свист,
Это – щелканье сдавленных льдинок,
Это – ночь, леденящая лист,
Это – двух соловьев поединок…
Юрий Анненков утверждал, что подлинной родиной и творческой атмосферой Пастернака были Вселенная и Вечность. Более близких границ, при его дальнозоркости, он не замечал. Отсюда:
Пока я с Байроном кутил,
Пока я пил с Эдгаром По!..
В 30-е годы, по свидетельству сына Евгения Пастернака: «Все, за малым исключением, признавали его художественное мастерство. При этом его единодушно упрекали в мировоззрении, не соответствующем эпохе, и безоговорочно требовали тематической и идейной перестройки…»
Место Бориса Пастернака в советской литературе определил кремлевский лизоблюд и бард Демьян Бедный:
А сзади, в зареве легенд,
Дурак, герой, интеллигент.
В августе 1934 года проходил Первый съезд советских писателей. Борис Пастернак – делегат съезда. В отчетном докладе о поэзии Николай Бухарин говорил: «Борис Пастернак является поэтом, наиболее удаленным от злобы дня, понимаемой даже в очень широком смысле слова. Это поэт-песнопевец старой интеллигенции, ставшей интеллигенцией советской. Он, безусловно, приемлет революцию, но он далек от своеобразного техницизма эпохи, от шума быта, от страстной борьбы. Со старым миром он порвал еще во время империалистической войны и сознательно стал “поверх барьеров”. Кровавая чаша, торгашество буржуазного мира были ему глубоко противны, и он “откололся”, ушел от мира, замкнулся в перламутровую раковину индивидуальных переживаний, нежнейших и тонких, хрупких трепетаний раненой и легкоранимой души. Это – воплощение целомудренного, но замкнутого в себе, лабораторного искусства, упорной и кропотливой работы над словесной формой… Пастернак оригинален. В этом и его сила, и его слабость одновременно… оригинальность переходит у него в эгоцентризм…»
Бухарин юлил: он знал и любил поэзию Пастернака, но обязан был критиковать. И критиковал. О Пастернаке на писательском съезде говорили многие. Алексей Сурков отметил, что Пастернак заменил «всю вселенную на узкую площадку своей лирической комнаты». И, мол, надо ему выходить на «просторный мир». Но зачем было выходить, когда на первую строчку в поэтической иерархии Сталин поставил умершего Маяковского, а не строптивого и живого Пастернака. Маяковский был определен для масс, доступен и понятен. Пастернак остался для избранных. И покорял их, по выражению Бориса Зайцева, «тайной прельщения».
Если сравнивать судьбу Пастернака, к примеру, с судьбой Исаака Бабеля, то тут разница в том, что Бабеля уничтожили физически, а Пастернака затравили и растоптали морально.
Тридцатые годы были для Пастернака трудными. В мае 1934-го позвонили из Кремля. Сквозь помехи и шум большой перенаселенной коммунальной квартиры Пастернак услышал вопрос Сталина, почему Пастернак не хлопотал о Мандельштаме: «Я бы на стену лез, если бы узнал, что мой друг поэт арестован». Пастернак неубедительно ответил про писательские организации. А затем, растерявшись (а может быть, это вынырнуло из подсознания?), заявил: «Да что мы о Мандельштаме да о Мандельштаме, я давно хотел с вами встретиться и поговорить серьезно». «О чем же?» – спросил вождь. «О жизни и смерти», – ответил Пастернак. Сталин тут же повесил трубку. Последовали гудки отбоя разговора.
Всю вторую половину 30-х Пастернак подвергался нападкам прессы. Суть критики выразил Александр Фадеев в 1937 году на писательском пленуме, посвященном столетию гибели Пушкина. «Возьмем Пастернака… – декларировал Фадеев. – Я думаю, что он просто находится в каком-то странном положении. Я не знаю, сам ли он до этого додумался или есть какая-то тень старых дев, которые на него дуют и раздувают это его представление, но, очевидно, он считает, что надо стоять особняком к общему движению народа вперед. И он “играет” в какое-то свое “особое мнение”. Занимает какую-то будто бы “самостоятельную” позицию, ставит себя отдельно от всех. Может быть, в этом, по его мнению, состоит продолжение пушкинских традиций? Может быть, семь старых дев стоят и дуют на него: “Смотри, вокруг тебя все маленькие, а ты вроде Пушкина – большой и самостоятельный, – он ничего не боялся, писал то, что считал нужным, целесообразным. Так и ты живи!”»
Пастернаку в ответ пришлось оправдываться и доказывать свою лояльность стране и партии. И в том же 37-м Пастернак вновь продемонстрировал свое особое мнение, отказавшись поставить подпись под обращением писателей с требованием расстрелять Тухачевского и Якира, руководителей Красной армии. Удивительно, что и этот демарш Пастернаку простили, не арестовали, не завели на него дело, а просто перестали печатать. Что оставалось делать? Пастернак взялся за переводы. Кто-то из сатириков пошутил:
Живи, Шекспир! Ты Пастернаком
Переведен – и даже с гаком!
Но травля Бориса Леонидовича продолжалась. Алексей Сурков в газете «Культура и жизнь» упрекнул Пастернака в «скудости духовных запросов», в неспособности «породить большую поэзию».
Ну а после войны началась вакханалия с романом «Доктор Живаго». Роман был напечатан на Западе, и 23 декабря 1958 года Борису Пастернаку присудили Нобелевскую премию по литературе. И тут поднялась настоящая буря неприятия и ненависти (и зависти?!): как посмел издать книгу на тлетворном Западе – изменник, «литературный сорняк» и прочая брань. Нашлись с избытком и голоса народа: «Я Пастернака не читал, но считаю…». И что самое прискорбное, высказывание коллег по писательскому цеху с требованием изгнать Пастернака из советской страны немедленно вон – «Мы не хотим дышать с Пастернаком одним воздухом» (Борис Полевой, настоящий человек).
Пастернак был вынужден отказаться от Нобелевской премии, и ему милостиво разрешили остаться на родине. Поэт был растерян:
Хотя были и приятности. Однажды Ходасевич поинтересовался, что связывает Мандельштама с Гумилевым:
– А вы что делаете в «Цехе поэтов»?
– Я пью чай с конфетами, – ответил Мандельштам с обиженным лицом. Ну не бороться же с Гумилевым?!. – таков был подтекст его «чая с конфетами». Миролюбие и желание покоя? Нет, иногда Мандельштам взрывался, как вулкан, и лава слов покрывала всех разом. Так, в «Четвертой прозе» он буквально кричал:
…Я срываю с себя литературную шубу и топчу ее ногами. Я в одном пиджачке в 30-градусный мороз три раза пробегу по бульварным кольцам Москвы. Я убегу из желтой больницы комсомольского пассажа навстречу смертельной простуде, лишь бы не видеть 12 освещенных иудиных окон похабного дома на Тверском бульваре, лишь бы не слышать звона серебреников и счета печатных машин…»
«…Мне и годы впрок не идут – другие с каждым днем все почтеннее, а я наоборот – обратное течение времени, я виноват. Двух мнений здесь быть не может. Из виновности не вылезаю. В неоплатности живу. Изворачиванием спасаюсь. Долго ли мне изворачиваться?..»
В «Портретах современников» Сергей Маковский живописал Мандельштама следующим образом:
«…Беден был, очень беден, безысходно. Но, кроме стихов, ни на какую работу он не был годен. Жил впроголодь. Из всех тогдашних поэтов Петербурга ни один не нуждался до такой степени. Вообще все сложилось для него неудачно. И наружность непривлекательная, и здоровье слабое. Весь какой-то вызывающий насмешки, неприспособленный и обойденный на жизненном пиру.
Однако его творчество не отражало ни этой убогости, ни преследующих его – отчасти и выдуманных им – житейских “катастроф”. Ветер вдохновения проносил его поверх личных испытаний. В жизни чаще всего вспоминается мне Мандельштам смеющимся. Смешлив он был чрезвычайно – рассказывает о какой-нибудь своей неудаче и задохнется от неудержимого хохота… А в стихах, благоговея перед “святыней красоты”, о себе, о печалях своих если и говорит, то заглушенно, со стыдливой сдержанностью. Никогда не жаловался на судьбу, не плакал над собой. Самые скорбно-лирические его строфы (может быть, о неудавшейся любви?) звучат отвлеченно-возвышенно».
После такой оценки просятся строки поэта:
Нет, не луна, а светлый циферблат
Сияет мне – и чем я виноват,
Что слабых звезд я осязаю млечность?
И Батюшкова мне противна спесь:
Который час? его спросили здесь,
А он ответил любопытным: вечность!
Ах, эта вечность, все в ней идет по кругу. История возвращается, повторяется, и, как мученически выдохнул Мандельштам,
Все перепуталось, и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея.
Однако пора и поставить финальную точку. До сих пор архив Осипа Мандельштама не собран и разбросан по всему свету, в частности, в Армении, Франции, Германии, Израиле, США, Канаде. И сегодня вряд ли кто-нибудь удивится:
Что за фамилия чортова!
Как ее ни выкручивай,
Криво звучит, а не прямо!..
Имя Мандельштама ныне звучит везде.
Борис Пастернак: мятущийся поэт, «как зверь в загоне»
Борис Леонидович Пастернак (1890, Москва – 1960, Переделкино). Тончайший лирик, тяготеющий к философским проблемам бытия. Яркий пример человека, не захотевшего расстаться с родиной. Учился в Марбурге и имел возможность остаться в Германии и стать там ученым-филологом, но не захотел и не остался. После революции, когда многие искали спасение в эмиграции, не захотел такого спасения. А между тем его отец Леонид Осипович Пастернак эмигрировал в 1921-м, жил за границей, сначала в Берлине, потом – в Оксфорде. Борис Пастернак имел возможность воссоединиться с семьей, но вновь игнорировал такую возможность, в отличие от сестры Жозефины Пастернак (1903–1993). Сестра уехала с отцом и под именем Анны Ней опубликовала в 1938 году сборник стихотворений «Координаты».
Борис Пастернак избрал другой путь. А когда разразилась гроза из-за публикации на Западе романа «Доктор Живаго» и присуждения ему Нобелевской премии и когда власть намеревалась выслать поэта за пределы родины, то Пастернак отчаянно сопротивлялся, считая, что эмиграция – это хуже смерти. Отказавшийся от Нобелевской премии и исключенный из Союза писателей, он уединился на даче в Переделкино, где вскоре и скончался. Это если предельно кратко. А если поподробней, то…
Борис Пастернак родился в творческой семье: отец – художник, мать – пианистка. Соответственно, ему по наследству передались творческие гены. С юных лет Борис метался и несколько раз резко менял направление своих устремлений: увлекаясь музыкой, он оставил ее ради философии, а потом философию – ради поэзии. Однажды Пастернак в какой-то тоске и муке заявил: «Мир – это музыка, к которой надо найти слова! Надо найти слова!» И он их мучительно искал всю жизнь, отвергнув всякие лингвистические выкрутасы футуристов.
Марина Цветаева отмечала: «…Внешне осуществление Пастернака прекрасно: что-то в лице зараз от араба и от его коня: настороженность, вслушивание, – и вот-вот… Полнейшая готовность к бегу… Захлебывание младенца… Пастернак не говорит, ему некогда договаривать, он весь разрывается, – точно грудь не вмещает: а-ах!.. Пастернак поэт наибольшей пронзаемости, следовательно, – пронзительности. Все в него ударяет… Удар. – Отдача…тысячетвердое эхо всех его Кавказов… Пастернак – это сплошное настежь…»
Рюрик Ивнев вспоминал, что своих собеседников Пастернак «восхищал, очаровывал и утомлял, как гипнотизер, после разговора с ним человек, любивший и понимающий его, отходил, шатаясь от усталости и наслаждения, а не понимавший – с глупой улыбкой, пожимая плечами…».
Многие считали, что Пастернак – поэт даже не от Бога, а сам Бог – сочинитель, тайновидец и тайносоздатель, хотя сам Пастернак считал себя лишь свидетелем мировой истории.
Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе
Расшиблась весенним дождем обо всех,
Но люди в брелоках высоко брюзгливы
И вежливо жалят, как змеи в овсе…
А как определял Борис Пастернак поэзию?
Это – круто налившийся свист,
Это – щелканье сдавленных льдинок,
Это – ночь, леденящая лист,
Это – двух соловьев поединок…
Юрий Анненков утверждал, что подлинной родиной и творческой атмосферой Пастернака были Вселенная и Вечность. Более близких границ, при его дальнозоркости, он не замечал. Отсюда:
Пока я с Байроном кутил,
Пока я пил с Эдгаром По!..
В 30-е годы, по свидетельству сына Евгения Пастернака: «Все, за малым исключением, признавали его художественное мастерство. При этом его единодушно упрекали в мировоззрении, не соответствующем эпохе, и безоговорочно требовали тематической и идейной перестройки…»
Место Бориса Пастернака в советской литературе определил кремлевский лизоблюд и бард Демьян Бедный:
А сзади, в зареве легенд,
Дурак, герой, интеллигент.
В августе 1934 года проходил Первый съезд советских писателей. Борис Пастернак – делегат съезда. В отчетном докладе о поэзии Николай Бухарин говорил: «Борис Пастернак является поэтом, наиболее удаленным от злобы дня, понимаемой даже в очень широком смысле слова. Это поэт-песнопевец старой интеллигенции, ставшей интеллигенцией советской. Он, безусловно, приемлет революцию, но он далек от своеобразного техницизма эпохи, от шума быта, от страстной борьбы. Со старым миром он порвал еще во время империалистической войны и сознательно стал “поверх барьеров”. Кровавая чаша, торгашество буржуазного мира были ему глубоко противны, и он “откололся”, ушел от мира, замкнулся в перламутровую раковину индивидуальных переживаний, нежнейших и тонких, хрупких трепетаний раненой и легкоранимой души. Это – воплощение целомудренного, но замкнутого в себе, лабораторного искусства, упорной и кропотливой работы над словесной формой… Пастернак оригинален. В этом и его сила, и его слабость одновременно… оригинальность переходит у него в эгоцентризм…»
Бухарин юлил: он знал и любил поэзию Пастернака, но обязан был критиковать. И критиковал. О Пастернаке на писательском съезде говорили многие. Алексей Сурков отметил, что Пастернак заменил «всю вселенную на узкую площадку своей лирической комнаты». И, мол, надо ему выходить на «просторный мир». Но зачем было выходить, когда на первую строчку в поэтической иерархии Сталин поставил умершего Маяковского, а не строптивого и живого Пастернака. Маяковский был определен для масс, доступен и понятен. Пастернак остался для избранных. И покорял их, по выражению Бориса Зайцева, «тайной прельщения».
Если сравнивать судьбу Пастернака, к примеру, с судьбой Исаака Бабеля, то тут разница в том, что Бабеля уничтожили физически, а Пастернака затравили и растоптали морально.
Тридцатые годы были для Пастернака трудными. В мае 1934-го позвонили из Кремля. Сквозь помехи и шум большой перенаселенной коммунальной квартиры Пастернак услышал вопрос Сталина, почему Пастернак не хлопотал о Мандельштаме: «Я бы на стену лез, если бы узнал, что мой друг поэт арестован». Пастернак неубедительно ответил про писательские организации. А затем, растерявшись (а может быть, это вынырнуло из подсознания?), заявил: «Да что мы о Мандельштаме да о Мандельштаме, я давно хотел с вами встретиться и поговорить серьезно». «О чем же?» – спросил вождь. «О жизни и смерти», – ответил Пастернак. Сталин тут же повесил трубку. Последовали гудки отбоя разговора.
Всю вторую половину 30-х Пастернак подвергался нападкам прессы. Суть критики выразил Александр Фадеев в 1937 году на писательском пленуме, посвященном столетию гибели Пушкина. «Возьмем Пастернака… – декларировал Фадеев. – Я думаю, что он просто находится в каком-то странном положении. Я не знаю, сам ли он до этого додумался или есть какая-то тень старых дев, которые на него дуют и раздувают это его представление, но, очевидно, он считает, что надо стоять особняком к общему движению народа вперед. И он “играет” в какое-то свое “особое мнение”. Занимает какую-то будто бы “самостоятельную” позицию, ставит себя отдельно от всех. Может быть, в этом, по его мнению, состоит продолжение пушкинских традиций? Может быть, семь старых дев стоят и дуют на него: “Смотри, вокруг тебя все маленькие, а ты вроде Пушкина – большой и самостоятельный, – он ничего не боялся, писал то, что считал нужным, целесообразным. Так и ты живи!”»
Пастернаку в ответ пришлось оправдываться и доказывать свою лояльность стране и партии. И в том же 37-м Пастернак вновь продемонстрировал свое особое мнение, отказавшись поставить подпись под обращением писателей с требованием расстрелять Тухачевского и Якира, руководителей Красной армии. Удивительно, что и этот демарш Пастернаку простили, не арестовали, не завели на него дело, а просто перестали печатать. Что оставалось делать? Пастернак взялся за переводы. Кто-то из сатириков пошутил:
Живи, Шекспир! Ты Пастернаком
Переведен – и даже с гаком!
Но травля Бориса Леонидовича продолжалась. Алексей Сурков в газете «Культура и жизнь» упрекнул Пастернака в «скудости духовных запросов», в неспособности «породить большую поэзию».
Ну а после войны началась вакханалия с романом «Доктор Живаго». Роман был напечатан на Западе, и 23 декабря 1958 года Борису Пастернаку присудили Нобелевскую премию по литературе. И тут поднялась настоящая буря неприятия и ненависти (и зависти?!): как посмел издать книгу на тлетворном Западе – изменник, «литературный сорняк» и прочая брань. Нашлись с избытком и голоса народа: «Я Пастернака не читал, но считаю…». И что самое прискорбное, высказывание коллег по писательскому цеху с требованием изгнать Пастернака из советской страны немедленно вон – «Мы не хотим дышать с Пастернаком одним воздухом» (Борис Полевой, настоящий человек).
Пастернак был вынужден отказаться от Нобелевской премии, и ему милостиво разрешили остаться на родине. Поэт был растерян: