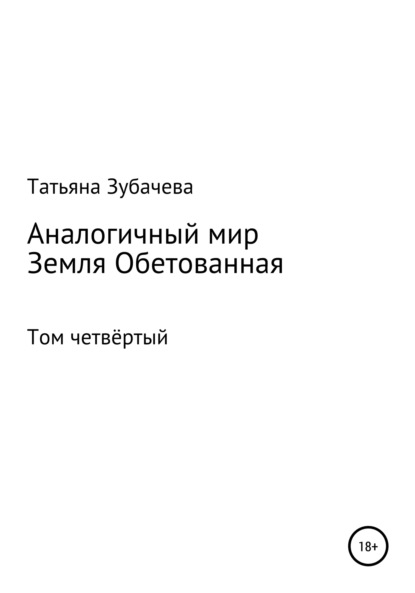По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Аналогичный мир. Том четвёртый. Земля обетованная
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Держи.
Эркин поймал на лету ловко брошенный брусок и поправил косу. Оглянувшийся на него Миняй, удовлетворённо кивнул.
– Умеешь.
Эркин улыбнулся и перебросил ему брусок.
– И ты сделай, – и объяснил: – Звук не тот.
– Ишь ты, – покрутил головой Миняй. – Это ты здорово…
И снова мерные монотонные движения. Луг ровный, без кочек, трава суховата, ну да, верх же, но всё равно хорошая.
Так, то молча, то перекликаясь и балагуря, они дошли до вешек – белых, равномерно воткнутых в землю палок. Луг шёл дальше к реке, но Колькина земля до вешек.
– А там трава получше, – хмыкнул Миняй, поправляя косу.
– Знаю, – вздохнул Колька. – Да нижние луга не по моим деньгам.
– Заливная земля дорога, – кивнул Миняй. – Ну, становись и пошли. До полудня что смахнём, то перевернём и заполудноваем.
Первого места он Эркину так и не уступил. Но тот и не претендовал на него. Работает Миняй споро, он за ним успевает, а Миняй и старше, и знает это дело, так чего ж…
До полудня, уже всё чаще поправляя, подтачивая косы, они осилили половину луга и пошли за граблями, перевернуть подсохшие валки.
– Ничо, – Миняй разворачивает, рассыпает валок. – Ничо, Колька, трава сухая – сено звонкое.
– Ага, – выдыхает Колька.
Трава не тяжела, они ж такие мешки да контейнеры ворочают, а сноровка совсем другая, без сноровки пушинку подцепить – так потом умоешься.
– Всё, мужики, – Миняй рукавом рубахи вытер лицо. – Айда полудновать. В полдень косить, только косу тупить.
Устало волоча ноги, добрели до кустов, где булькал на костре котелок, свалили грабли с косами и сами повалились на землю.
– Уф-ф! – Андрей потряс головой. – Поспело уже?
– Успеешь, – Эркин, щурясь от пара, заглянул в котелок и стал поправлять огонь.
– Кулеш на вечер, – согласился Миняй. – Сейчас охолонем чуть и тюрю заведём. Мороз, ты квас куда поставил?
– Под курткой, – Эркин встал и потянулся, сцепив руки на затылке. – Андрей, айда, умоемся.
Андрей со вздохом перевернулся на живот, отжался на кулаках и встал.
– Не шевелится только мёртвый. Айда. Кольк, берём Миняя и пошли.
– Я т-те возьму, – рыкнул Миняй, но к ручью пошёл.
И, хоть ворчал, что мужики уже, а как мальцы, дети малые, но и поплескался и повозился со всеми. Особо не выкупаешься: воды по колено, и как лёг – так запрудил, но даже просто смыть пот и охладить лицо – уже хорошо. Мокрые, на ходу обсыхая под палящим солнцем, они поднялись к кустам и сели полудновать.
– А ты чего это тюрей назвал? – Андрей облизал ложку. – Это же окрошка.
– Хрен, как ни назови, малиной не станет, – заржал Колька. – Лопай, что дают, и не спрашивай.
Миняй хмыкнул.
– Оно-то так и не так. Тюря, если по-взаправдашнему, так это хлеб с водой и луком, да посолить ещё, а окрошка, она на квасе, да с овощами, но на покосе тюря положена.
– Тюря так тюря, – покладисто согласился Андрей, подливая себе квасу. – Ох и хорош квасок, никогда такого не пил.
– С устали да голоду, всё сладко, – усмехнулся Миняй.
Солнце прямо над головой, ветер стих, душно пахнет вянущей травой, а это что?
– Перепёлка детей скликает, – Миняй заметил, что Эркин прислушивается к птичьему посвистыванию из травы. – Неужто не слыхал?
– Слыхал, – улыбнулся Эркин, – но не знал.
– Чудно, – Миняй удивлённо покачал головой, – Ты ж… – и оборвал, не закончив фразу.
Эркин не ответил. Неважно, что подумал Миняй, что он индеец, или что был скотником, пастухом и должен был бы это знать, а вот… но что есть, то есть, да, он слышал, ещё там в Алабаме, и видел, и птиц, и следы звериные, и жуков всяких, и бабочек, и травы разной насмотрелся и даже напробовался, но не надзирателей же спрашивать, а рабы и сами не знают, и не до того им. Чего сожрать нельзя, о том и речи нет.
Тени было не так уж много. Голову ещё спрячешь, а остальное… уж как получится. Совсем издали протяжное, слов не разобрать, пение. Миняй кряхтит, зевает и крестит рот, мерно дышит мгновенно заснувший Колька, ну да, он-то крутится побольше их, и работа, и хозяйство – всё на нём. И Андрей засопел. Эркин вытянулся, привычно закинув руки за голову, закрыл глаза. Рубашку он, как и остальные, просто подстелил себе под спину, чтоб не наколоться случаем…
…Солнце над самой головой, два взмаха и опять поправляй косу. Прогон прошли и бегом к граблям, перевернуть подсохшее, и опять к косам.
– Чище коси! Опять оставил!
Плеть без щелчка ложится на тело, Зибо глухо вскрикивает от боли. Сволочь Грегори, ну, чего цепляется, трава уже совсем под косу не ложится, да и он следом идёт, прихватил бы этот пучок. По спине Зибо медленно ползёт вниз красная струйка. Сволочь надзирательская, сейчас мухи налетят, они на кровь падкие, а ни отмахнуться, ни прикрыться…
…Эркин вздохнул, не открывая глаз. Хоть и спрятал голову в тень, а солнце всё равно просвечивает…
…И в самую жару Грегори не дал им отдохнуть, погнал на дойку, на пастбище. Так ломило всё тело, что даже есть не хотелось. Они с Зибо ходят от коровы к корове с подойниками, надоенное относят к тележке, выливают в бидоны и снова к следующей корове. У тележки сидит на корточках Губач, голодными глазами провожает каждое ведро. Но Грегори рядом, стоит и плетью пощёлкивает, и встал, сволочь белая, так, что всех сразу видит, не отхлебнёшь.
– Управились, навозники! – Грегори оглушительно свистит в два пальца. – Давай, Пит!
К ним подъезжает верховой надзиратель.
– Готово, Грегори?
– Гони.
Надзиратели ещё о чём-то болтают и ржут, но он уже не слушает. Попить бы. Есть уже не хочется, хоть бы рот сполоснуть.
– Пошли! – щелчок плети.
Губач ведёт лошадь с молочной повозкой, рядом едет Пит, а им… новый щелчок указывает дорогу…