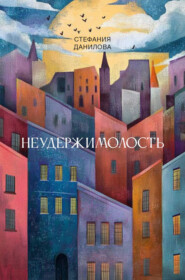По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Веснадцать
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сердце, разбитое монтировкой –
гастрономическая деталь.
Я наколю тебе
татуировкой
сердце на руку, насыплю тальк.
Нет, не рисованное –
живое
(орган, качающий кровь
в груди).
Да, я хочу, чтоб на было Двое.
И выбросить к чёрту
валокордин.
«Осень роняет листы с пюпитра, осень не хочет играть концерты…»
Осень роняет листы с пюпитра, осень не хочет играть концерты. Осень устала светиться в титрах, титры – от фильма – ну, пять процентов. Осени шарфик бы потеплее, горло больное, да кто ей свяжет. Снова подарят букеты лилий, серых, расхристанных и увядших. Как же там модно… а,
в знак респекта. Плохо, забота когда забыта. Осень думает: жизни вектор падает в петроэлектросбыты, в пыльный ковер – не судьба прибраться, в чашки, немытые две недели. Осень шепчет сквозь зубы: братцы, остоебенели. Надоели. Все ваши лилии из-под палки, даже улыбка – и то душевней, ей – в отвратительной коммуналке запах удавку кладет на шею. Ей тут для вас распевать синицей, листья разбрасывать истеричкой – может быть, счастье ей и приснится где-то на проводе электрички. Каждый оптиковолоконный кабель важнее осенних песен. Осень плачется на балконы каждый-прекаждый рабочий месяц.
Всем бы смотреть про влюбленных всяких, или двойное смертоубийство, подозреваемых там – десятки, и в главной роли – опять Клинт Иствуд. Все дружно пялятся в мониторы, а с бутербродом вкусней, вообще-то. Осень танцующей Айседорой что-то показывает: все тщетно. Осень бросается афоризмом – это как мертвым уже припарки. Осень садится Киану Ривзом с булкой на лавочку в старом парке, где даже птицы не ночевали, солнце запуталось в паутине.
Если вернусь с разочарованьем, знаю теперь я, куда идти мне.
«Ковбойская шляпа. В зубах – сигарета…»
Ковбойская шляпа. В зубах – сигарета,
я дамским парфюмом пропах.
Ты хочешь рубашкой моей быть согретой
и тающей
на губах.
Тебе лет тринадцать… И я тебя старше
на жизнь, или может, на две.
Ты вечно краснеешь от свадебных маршей,
и роза ветров –
в голове.
Мне льстит, если палец к губам подношу я,
и ты обращаешься в слух.
Ты просишь Любовь, как собаку большую,
но я к этим просьбочкам глух.
Конечно же, мы поцелуемся в полночь,
споем о любви в унисон –
а после ты с первым будильником вспомнишь,
что это был сказочный сон.
Ты – черное ухо у белого Бима,
твой мир по краям опалён…
…Мне нравится быть невзаимно любимым –
Я сам невзаимно влюблён!..
Тамбурный бог
Я делаю черный пиар ООО «Макдак»,
рифмуя гамбургер с тамбуром, где курю.
Не надо мне строить глазки, таксист-мудак,
мне, в женственном теле пещерному дикарю;
Поэту не нужен секс, как он нужен вам,
мужчина под сороковник или полтос.
Не практикую. Не до того. Жива.
Не знаешь, о чем разговаривать? Досвидос.
Ты знаешь, я хочу сочинить язык
такой, чтобы без жестов, без глаз, без слов…
Я даже чуть-чуть подгрызла его азы:
Бог говорил со мной, и меня трясло.
И только представь, я даже вела конспект
жиллетовским лезвием, где началась ладонь.
В общем, я хоть в Парламент смогу успеть,
если не стану рифмующей мир балдой.
Я бы лежала в красном полусухом,
томно снимаясь для экстра-страниц в Maxim.
Но я убиваю себя и тебя стихом,
а значит, опять нет денежек на такси.
Мне бы мог спеть хит года «Така, як тi»
какой-нибудь романтический Вакарчук,
но я не люблю влюбленных в меня, етить,
и никаких цветов от них не хочу.
Если я – безо всякого wanderlust,
в мире акульего бизнеса ни бум-бум,
женщине, у которой я родилась,
Господи, слышишь…. рядом… кого-нибудь.
Чтоб, если я допью свой кагор до дна,
с нею осталась такая, как я – точь-в-точь.
Чтоб никогда не скучала она одна –
у нее самая непутевая в мире дочь.
Хочется небо высветлить хоть на треть,
небо ее глаз. Вымыть колокола.
Закрой мне глаза. Я не могу смотреть
на слезы господни
по той стороне
стекла.
«Я говорил: моя дорогая леди…»
Я говорил: моя дорогая леди,
тебя на этом свете мне нет родней.
Ты говорила: Встретимся Летом… В Лете
лежат слова, поблескивая на дне.
Зима сменила платья, сманила счастье
и подмешала льдинок в горячий чай.