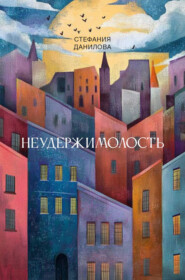По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Веснадцать
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Привет, любимый» стало обычным
«Здрасти»,
пожалованным с нищенского плеча.
В итоге мне пришлось не собой казаться,
у дочери бизнес-босса прося руки.
Потом смотреть у стены окружного ЗАГСа
чудесный фильм про твой поцелуй с другим.
Я был один и пил без тебя рассветы,
они отдавали горькой приставкой «не».
Мои любовные письма достались ветру,
а ветер в квартире сердца достался мне.
Жена ушла к другому, кто побогаче,
но что мне этот пятый размер груди,
когда я сижу и пью свой закат на даче
и знаю, знаю, что не ждет меня впереди.
И я молился Яхве, Аллаху, Будде:
мол, дай надежду…
– Нет её, идиот!
Мне страшно, что после нас никого не будет.
Мне страшно, что за чертой нас никто
не ждет.
Маме
И какие бы годы в стекла дождем ни стукнули,
ты всегда – одного и того же
со мною
возраста.
Я тебе обещаю, мы съездим еще в Памуккале
и на Кошке-горе измажемся
сладким хворостом.
Мы в мегаполисе крепко спим
и проснемся бодрыми
в одном из аэропортов
палящей
Турции.
Нас в загорелый выкрасит жаркое солнце
Бодрума.
Я расцвету тебе мальвою
и настурцией.
Тебе всегда
рентгеном-взглядом
меня просвечивать,
а мне дарить тебе внуков
и небо с просинью.
Люблю тебя.
Тебе во мне продолжаться вечно ведь!
На акварелях богов –
совершенно Осенью.
Мне посвящать тебе
радости-слезы-сборники,
искореняя домашнее
нерадение.
И в этом, по счету неважно котором вторнике
я тебя поздравляю
с Эпохою
Возрождения…
«И когда-нибудь выбор падёт на одну из планид…»
И когда-нибудь выбор падёт на одну из планид:
нараспашку сердца либо приступы изолофобий.
А меня беспокоит тот факт, что толстовка полнит,
а не выбор какой-то. Но знаешь, я б выбрала обе.
Иногда лучше быть с кем попало, как паллиатив,
вопреки рубаям в инкрустированном альманахе.
Поперечному встречному вскрикнуть: давай полетим
в стратосферу, не то я пополню плеяды монахинь!
Пусть не синяя птица, но галочка, паспортный штамп,
зеленеющим следом на брачном бракованном пальце…
…Что страшней: от тактильного голода сваи шатать
или с чуждым тебе на твоей простыне просыпаться?
Может, лучше, когда одиночество – главный звонарь
колокольни внутри, механизм музыкальных шкатулок?
А лилово светящийся под правым глазом фонарь
поцелуев роднее, которых норд-остами сдуло…
Что же выгодней мне: докрасна раскалиться горшком
от любви, распирающей пламенем клетку грудную,
обойти параллели и меридианы пешком
за любимым своим, позабыв даже маму родную?
Или, может, белее каррарского мрамора быть
в тихой келье, где книги желтеют от света лампады?
И носить вечный траур по участи Божьей рабы,
а не гнаться за Солнцем? Икарам приходится падать…
На охоту за свежей любовью бежать со всех ног
или сбегать в продмаг за дешевым
любовным консервом?
Я останусь на месте, плетя свой терновый венок
из рифмованных строчек, смотря неотрывно на север…
«Тысяча девятьсот сумасшедший год…»
Тысяча девятьсот сумасшедший год
выплюнул в мир меня на потеху людям,
они, вылезая из серебристых Шкод,
шапочным дружбанам говорят «люблю тя»
и носят моднявые сумки «Lui Viton»,
за пятихатку купленные на рынке.
Я извиняюсь, но глянцевый моветон
«Здрасти»,
пожалованным с нищенского плеча.
В итоге мне пришлось не собой казаться,
у дочери бизнес-босса прося руки.
Потом смотреть у стены окружного ЗАГСа
чудесный фильм про твой поцелуй с другим.
Я был один и пил без тебя рассветы,
они отдавали горькой приставкой «не».
Мои любовные письма достались ветру,
а ветер в квартире сердца достался мне.
Жена ушла к другому, кто побогаче,
но что мне этот пятый размер груди,
когда я сижу и пью свой закат на даче
и знаю, знаю, что не ждет меня впереди.
И я молился Яхве, Аллаху, Будде:
мол, дай надежду…
– Нет её, идиот!
Мне страшно, что после нас никого не будет.
Мне страшно, что за чертой нас никто
не ждет.
Маме
И какие бы годы в стекла дождем ни стукнули,
ты всегда – одного и того же
со мною
возраста.
Я тебе обещаю, мы съездим еще в Памуккале
и на Кошке-горе измажемся
сладким хворостом.
Мы в мегаполисе крепко спим
и проснемся бодрыми
в одном из аэропортов
палящей
Турции.
Нас в загорелый выкрасит жаркое солнце
Бодрума.
Я расцвету тебе мальвою
и настурцией.
Тебе всегда
рентгеном-взглядом
меня просвечивать,
а мне дарить тебе внуков
и небо с просинью.
Люблю тебя.
Тебе во мне продолжаться вечно ведь!
На акварелях богов –
совершенно Осенью.
Мне посвящать тебе
радости-слезы-сборники,
искореняя домашнее
нерадение.
И в этом, по счету неважно котором вторнике
я тебя поздравляю
с Эпохою
Возрождения…
«И когда-нибудь выбор падёт на одну из планид…»
И когда-нибудь выбор падёт на одну из планид:
нараспашку сердца либо приступы изолофобий.
А меня беспокоит тот факт, что толстовка полнит,
а не выбор какой-то. Но знаешь, я б выбрала обе.
Иногда лучше быть с кем попало, как паллиатив,
вопреки рубаям в инкрустированном альманахе.
Поперечному встречному вскрикнуть: давай полетим
в стратосферу, не то я пополню плеяды монахинь!
Пусть не синяя птица, но галочка, паспортный штамп,
зеленеющим следом на брачном бракованном пальце…
…Что страшней: от тактильного голода сваи шатать
или с чуждым тебе на твоей простыне просыпаться?
Может, лучше, когда одиночество – главный звонарь
колокольни внутри, механизм музыкальных шкатулок?
А лилово светящийся под правым глазом фонарь
поцелуев роднее, которых норд-остами сдуло…
Что же выгодней мне: докрасна раскалиться горшком
от любви, распирающей пламенем клетку грудную,
обойти параллели и меридианы пешком
за любимым своим, позабыв даже маму родную?
Или, может, белее каррарского мрамора быть
в тихой келье, где книги желтеют от света лампады?
И носить вечный траур по участи Божьей рабы,
а не гнаться за Солнцем? Икарам приходится падать…
На охоту за свежей любовью бежать со всех ног
или сбегать в продмаг за дешевым
любовным консервом?
Я останусь на месте, плетя свой терновый венок
из рифмованных строчек, смотря неотрывно на север…
«Тысяча девятьсот сумасшедший год…»
Тысяча девятьсот сумасшедший год
выплюнул в мир меня на потеху людям,
они, вылезая из серебристых Шкод,
шапочным дружбанам говорят «люблю тя»
и носят моднявые сумки «Lui Viton»,
за пятихатку купленные на рынке.
Я извиняюсь, но глянцевый моветон