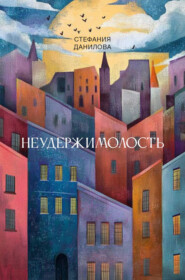По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Веснадцать
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
глохнет в наружу рвущемся львином рыке.
Все эти шуры-муры и хи-хи-хи
числятся обязаловкой высшей лиги.
Хочется обратить этот мир в стихи –
самую человечную из религий.
Смотрят на кошельки и на паспорта,
в душу плюя с двухтысячелетним стажем.
Я бы молчала в тряпочку, господа,
если бы этот мир был немного старше.
Чтобы купить себе дорогой IPhone,
здесь продадут и брата, и даже почку,
а я тут ору юродивой в микрофон,
пытаясь отбеливать черное в одиночку.
Ищу тебя, потерянный мой камрад,
кем бы ты ни был – Одином ли, Аствацем,
Яхве, Ганешей или Амоном-Ра,
где мне и как с тобою состыковаться?
Мне показалось, ты прячешься за углом
в каждом свежевозлюбленном мной мужчине,
найденной в плеере каверной группе «ГЛОМ!»,
новой подруге, приобретенном чине,
мятой купюре в заднем кармане брюк,
солнцем в клишейном небе Аустерлица,
в тамбуре каждого поезда, где курю,
но ты почему-то вечно меняешь лица.
Мне тут одной не справиться, mon ami,
и лучше бы мне за это вообще не браться.
Пожалуйста, посподручней кого найми
и вот еще… прости мое панибратство,
но мне не под силу этот концертный зал
заставить поверить в то, что любовь – бесценна.
В общем, Господь, что бы ты ни сказал,
я объявляю твой выход
на эту сцену.
«Наступает день…»
Наступает день,
которого ты так боялся и не хотел.
Ты перепробовал сотни горячих тел,
и забыл, как целоваться на заднем ряду
кинотеатра, видя затылочную гряду,
а сам фильм – закадровым отблеском в темноте.
Наступает день, когда под ногами – своя земля,
и тебе решать, кем ее населять,
только ты победителем вышел из всех охот,
до миллиметра просчитан любой исход.
с губ уже не срывается даже «блять».
Наступает день, и ты пресытился дулами амбразур,
и своими руками, приручающими гюрзу,
всеми кухнями мира и дорогим бухлом,
ты по горло сыт этим обесценившимся барахлом.
Ты так устал,
что не вытираешь слезу.
Наступает день, и ты уходишь пешком в Тибет,
где никто не сумеет отдать ничего тебе,
никаких сердец, долгов и отцовских фирм.
О тебе снимают документальный фильм
без твоего участия,
судачат о замечаниях в первом классе,
а ты сидишь на Кайласе,
трогаешь небо
и думаешь: «Здравствуй,
Счастье»
«Я очень страшное поняла тут…»
Я очень страшное поняла тут: вся жизнь равняется слову «жди». Ты ждешь, пока остывает латте, ты ждешь, пока не пройдут дожди, пока не выставят за экзамен, пока родители не придут, пока не выищешь ты глазами любимый абрис в седьмом ряду, пока мобильник не загорится таким, таким долгожданным «да». Неважно, сколько тебе – хоть тридцать, ты ждешь чего-то, кого – всегда. Я буду ждать твоего приезда так, как подарков не ждут уже, ты сам – подарок, ты сам – фиеста в несуществующем этаже. Я буду ждать тебя – может, годы, а может, правильнее – года? так, как у моря не ждут погоды, так, как с победой не ждут солдат. Секунда – день, а неделя – месяц, полковник ждет от тебя письма, прими, как данность, меня, не смейся – заожидаюсь тебя весьма. Неважно, с кем ты, неважно, где ты, кого целуешь по вечерам, ты будь, прошу, потеплей одетым и будь сегодня, как был вчера. Я жду тебя, как не ждет зарплату до денег ушлая молодежь!
Я очень страшное поняла тут:
ты точно так же меня
не ждешь.
«Пожалуйста, продолжай меня…»
Пожалуйста, продолжай меня,
как конспект –
своим медицинским почерком
неразборчивым,
кардиограммной лентой длиной в проспект.
Помнишь, ты поднял меня
у обочины?
В какой-то из жизней
я точно была – тетрадь,
начатая с красной строки за здравие.
Меня решили на листики разодрать,
по-школьному наслаждаясь своим
бесправием.
Ты можешь меня оставить
в своем столе –
практически нетронутой, непродолженной,
какой-нибудь дурацкой, неподытоженной.
Ты знаешь, а тетради
живут сто лет…
Пиши во мне
быстро, как в наладоннике –
хореи, амфибрахии, ямбы, дольники,
гостайны, телефонные номера
и возвращайся снова, как бумеранг.
Я никуда не денусь, лежащей в ящике.
Пожалуйста. Продолжай меня
Все эти шуры-муры и хи-хи-хи
числятся обязаловкой высшей лиги.
Хочется обратить этот мир в стихи –
самую человечную из религий.
Смотрят на кошельки и на паспорта,
в душу плюя с двухтысячелетним стажем.
Я бы молчала в тряпочку, господа,
если бы этот мир был немного старше.
Чтобы купить себе дорогой IPhone,
здесь продадут и брата, и даже почку,
а я тут ору юродивой в микрофон,
пытаясь отбеливать черное в одиночку.
Ищу тебя, потерянный мой камрад,
кем бы ты ни был – Одином ли, Аствацем,
Яхве, Ганешей или Амоном-Ра,
где мне и как с тобою состыковаться?
Мне показалось, ты прячешься за углом
в каждом свежевозлюбленном мной мужчине,
найденной в плеере каверной группе «ГЛОМ!»,
новой подруге, приобретенном чине,
мятой купюре в заднем кармане брюк,
солнцем в клишейном небе Аустерлица,
в тамбуре каждого поезда, где курю,
но ты почему-то вечно меняешь лица.
Мне тут одной не справиться, mon ami,
и лучше бы мне за это вообще не браться.
Пожалуйста, посподручней кого найми
и вот еще… прости мое панибратство,
но мне не под силу этот концертный зал
заставить поверить в то, что любовь – бесценна.
В общем, Господь, что бы ты ни сказал,
я объявляю твой выход
на эту сцену.
«Наступает день…»
Наступает день,
которого ты так боялся и не хотел.
Ты перепробовал сотни горячих тел,
и забыл, как целоваться на заднем ряду
кинотеатра, видя затылочную гряду,
а сам фильм – закадровым отблеском в темноте.
Наступает день, когда под ногами – своя земля,
и тебе решать, кем ее населять,
только ты победителем вышел из всех охот,
до миллиметра просчитан любой исход.
с губ уже не срывается даже «блять».
Наступает день, и ты пресытился дулами амбразур,
и своими руками, приручающими гюрзу,
всеми кухнями мира и дорогим бухлом,
ты по горло сыт этим обесценившимся барахлом.
Ты так устал,
что не вытираешь слезу.
Наступает день, и ты уходишь пешком в Тибет,
где никто не сумеет отдать ничего тебе,
никаких сердец, долгов и отцовских фирм.
О тебе снимают документальный фильм
без твоего участия,
судачат о замечаниях в первом классе,
а ты сидишь на Кайласе,
трогаешь небо
и думаешь: «Здравствуй,
Счастье»
«Я очень страшное поняла тут…»
Я очень страшное поняла тут: вся жизнь равняется слову «жди». Ты ждешь, пока остывает латте, ты ждешь, пока не пройдут дожди, пока не выставят за экзамен, пока родители не придут, пока не выищешь ты глазами любимый абрис в седьмом ряду, пока мобильник не загорится таким, таким долгожданным «да». Неважно, сколько тебе – хоть тридцать, ты ждешь чего-то, кого – всегда. Я буду ждать твоего приезда так, как подарков не ждут уже, ты сам – подарок, ты сам – фиеста в несуществующем этаже. Я буду ждать тебя – может, годы, а может, правильнее – года? так, как у моря не ждут погоды, так, как с победой не ждут солдат. Секунда – день, а неделя – месяц, полковник ждет от тебя письма, прими, как данность, меня, не смейся – заожидаюсь тебя весьма. Неважно, с кем ты, неважно, где ты, кого целуешь по вечерам, ты будь, прошу, потеплей одетым и будь сегодня, как был вчера. Я жду тебя, как не ждет зарплату до денег ушлая молодежь!
Я очень страшное поняла тут:
ты точно так же меня
не ждешь.
«Пожалуйста, продолжай меня…»
Пожалуйста, продолжай меня,
как конспект –
своим медицинским почерком
неразборчивым,
кардиограммной лентой длиной в проспект.
Помнишь, ты поднял меня
у обочины?
В какой-то из жизней
я точно была – тетрадь,
начатая с красной строки за здравие.
Меня решили на листики разодрать,
по-школьному наслаждаясь своим
бесправием.
Ты можешь меня оставить
в своем столе –
практически нетронутой, непродолженной,
какой-нибудь дурацкой, неподытоженной.
Ты знаешь, а тетради
живут сто лет…
Пиши во мне
быстро, как в наладоннике –
хореи, амфибрахии, ямбы, дольники,
гостайны, телефонные номера
и возвращайся снова, как бумеранг.
Я никуда не денусь, лежащей в ящике.
Пожалуйста. Продолжай меня