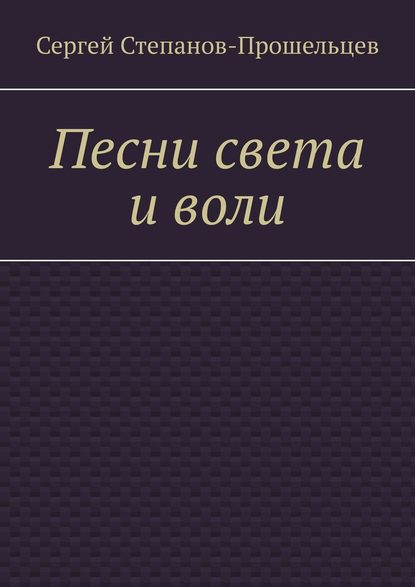По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Песни света и воли. Стихи разных лет
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Стою. Еще на костылях.
Уже могу стоять.
И отступают тлен и страх,
и я живу опять!
И то, что было, все в дыму:
разлуки и любовь.
И я стою и не пойму,
что я родился вновь.
* * *
Так же птицы осанну пели
изо всей своей птичьей силы.
Мир был молод. Еще Помпеи
мертвым пеплом не заносило.
Ты спускалась лианой гибкой,
в мгле вечерней видна нерезко.
Но доверчивую улыбку
навсегда сохранила фреска.
Платье – словно вчера надела,
та же легкая хмарь на небе…
Как ошибся я! Что наделал!
Двадцать с лишним веков здесь не был.
Юный ветер над миром реет,
он в музейные рвется холлы…
Между нами, как пропасть, время,
беспредельный, безбрежный холод.
Словно я услыхал случайно,
забывая, что жить мне мало,
эхо тысячелетней тайны,
что так долго не умирало.
* * *
Борису Полякову
Коммунальный оазис в пустыне асфальта…
Здесь в прохладе, сменившей полуденный зной,
извлекала игла из пластинки контральто
безнадёжно забытой певицы одной.
Молодела мелодия, и на паркете,
сняв обувку, стараясь из всех своих сил,
танцевали прилежно серьезные дети,
и товарищ мой гулко о чем-то басил.
Я смотрел на детей, на их робкий румянец,
позабыв, что совсем от жары изнемог,
и пленял меня их зажигательный танец,
что балетным канонам ответить не мог.
А певица все пела. И было мне жалко,
я боялся: неужто случится вот-вот —
скажет властно папаша, довольно, мол, жарко,
и священное действо навеки прервёт.
Я молил про себя: «Ну, еще хоть десяток,
только десять коротких секунд волшебства!»,
и планировал с неба весёлый десантник —
Уже могу стоять.
И отступают тлен и страх,
и я живу опять!
И то, что было, все в дыму:
разлуки и любовь.
И я стою и не пойму,
что я родился вновь.
* * *
Так же птицы осанну пели
изо всей своей птичьей силы.
Мир был молод. Еще Помпеи
мертвым пеплом не заносило.
Ты спускалась лианой гибкой,
в мгле вечерней видна нерезко.
Но доверчивую улыбку
навсегда сохранила фреска.
Платье – словно вчера надела,
та же легкая хмарь на небе…
Как ошибся я! Что наделал!
Двадцать с лишним веков здесь не был.
Юный ветер над миром реет,
он в музейные рвется холлы…
Между нами, как пропасть, время,
беспредельный, безбрежный холод.
Словно я услыхал случайно,
забывая, что жить мне мало,
эхо тысячелетней тайны,
что так долго не умирало.
* * *
Борису Полякову
Коммунальный оазис в пустыне асфальта…
Здесь в прохладе, сменившей полуденный зной,
извлекала игла из пластинки контральто
безнадёжно забытой певицы одной.
Молодела мелодия, и на паркете,
сняв обувку, стараясь из всех своих сил,
танцевали прилежно серьезные дети,
и товарищ мой гулко о чем-то басил.
Я смотрел на детей, на их робкий румянец,
позабыв, что совсем от жары изнемог,
и пленял меня их зажигательный танец,
что балетным канонам ответить не мог.
А певица все пела. И было мне жалко,
я боялся: неужто случится вот-вот —
скажет властно папаша, довольно, мол, жарко,
и священное действо навеки прервёт.
Я молил про себя: «Ну, еще хоть десяток,
только десять коротких секунд волшебства!»,
и планировал с неба весёлый десантник —