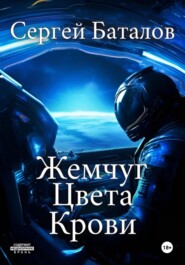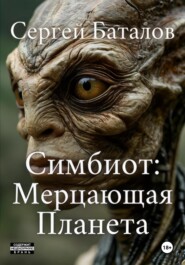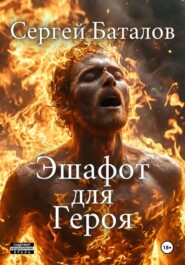По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Раны, нанесенные в детстве
Год написания книги
2021
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
"Не Платоныч я..... Не Платоныч" – думал Семён, глотая слезы. – "Не дал мне Всевышний ни его способностей, ни его ума. Значит, то, что я решил уходить – это правильное решение. Может, на освободившееся место придет кто-то более талантливый, чем я, тот, кому под силу то, что не удалось мне…"
…Ромка был самым талантливым, но не единственным "пригодным" для легкой атлетике учеником Семёна за последние шесть лет.
Были и другие очень одаренные мальчишки....
И ни одного из них заинтересовать по-настоящему, довести до профессионального тренера по легкой атлетике Семёну так и не удалось.
Не было у него гениальной убедительности Николай Платоновича, да и с харизмой его личности Всевышний тоже "подкачал".
Очень ярко талант бегуна проявлялся у Максима Мячина – младшего братишки Насти Мячиной. Его талант для себя и для школы Семён Аркадьевич, как обычно, открыл на уроках. Кроссы, ускорения, спецупражнения не всегда могут показать "бегучесть" пятиклассника. Чтобы определить, насколько ребенок предрасположен к легкой атлетике, нужны другие методы.
И Семён этими методами владел.
Один раз в неделю он давал своим ученикам на уроках физической культуры серию ускорений, и смотрел, как быстро бегут дети....
Но самое главное – насколько быстро они восстанавливаются.
Методика эта, в общем-то, была давно и хорошо известна в легкоатлетических кругах.
В далеких семидесятых годах прошлого века перспективного кубинского молодого баскетболиста Альберто Хуанторена отчислили из сборной команды за излишний индивидуализм в игре. Молодой парень, который очень не хотел возвращаться обратно в провинцию, пришел на стадион, где тренировались легкоатлеты.
Польский тренер Зигмунд Забьезовский, который в тот момент работал со сборной Кубы по легкой атлетике предложил кандидату в легкоатлеты пробежать 400 метров. Молодой баскетболист осилил дистанцию за 55 секунд. Не дав ему толком передохнуть, польский специалист вновь поспросил Альберто пробежать эту же дистанцию.
Хуанторена был на финише через 54 секунды.
Как потом вспоминал Зигмунд Забьезовский, в том момент он понял, что перед ним будущий великий бегун.
У Ромы Русакова в этом же возрасте – в 18 лет – результаты были получше, чем у великого бегуна Альберто Хуанторена.
Разумеется, на уроках физкультуры пятиклассники не бегали такие длинные отрезки. Но суть методики была та же – посмотреть способность пятиклашек к восстановлению после длинного для них спринта.
Отрезков было как правило, не меньше четырех.
Максим Мячин доминировал над всеми одноклассниками с огромным преимуществом.
Весной, на традиционной апрельской эстафете Семён поставил Максима на самый важный этап.
И Мячин не подвел.
Он принял эстафету третьим или даже четвертым.... На своем этапе развил такую скорость, что не только обошел всех соперников, но и сделал очень хороший отрыв от преследователей, обеспечив команде первое место.
Чуть позже его старшие товарищи во главе с Ромой Русаковым в острейшей борьбе выиграли второе место среди самых старших школьников – и также впервые в истории школы.
Сразу после завершения соревнований, с двумя огромными кубками в руках, уставший, но очень довольный Семён Аркадьевич зашел в кабинет, в котором школьный педагогический совет решал, кого из девятиклассников оставлять в десятый класс, а кого – нет.
К большому разочарованию учителя физической культуры большинство его лучших спортсменов – сегодняшних триумфаторов – оказались в числе "отцепленных" от среднего образования....
И никакие "веские" аргументы – что сохранение лучших спортсменов школы значительно улучшит имидж школы в районе – на "педагогический коллектив" не подействовали. Семён Аркадьевич с ненавистью посмотрел в пустые, равнодушные глаза "педагогических тёток"; из его души ощутимо потянуло темнотой.....
"Прям как "стая товарищей" из Соколово-Грязнухи" – подумал он.
Но спорить было уже бесполезно. Они свое решение уже приняли…
Семён сверкнул глазами, развернулся, устало шагнул за дверь кабинета.
Большие и красивые кубки, за которые "отцепленные" девятиклассники заплатили сотнями километров бега и килограммами пота, чужеродными элементами остались стоять на столе....
Осенью вместо баскетболистов и легкоатлетов, кровью и потом "написавших" новую главу в спортивную летопись школы, пришли новые ученики.
К физической культуре и спорту равнодушные, на уроках в своих школах почти ничему не обученные, ленивые и недисциплинированные.
Классному руководителю этого антиспортивного "болота" приходилось порой "кнутом и пряником" загонять новообращенных старшеклассников на уроки физической культуры.
И – не всегда успешно....
… Максим Мячин свою позицию по отношению к занятиям легкой атлетикой обозначил сразу: бегать не хочу и не буду.
Разумеется, иногда – хитростью или уговорами – педагог убеждал Максима походить на тренировки. Результаты Мячина моментально улучшались. Однажды он даже участвовал на внешкольных соревнованиях, обновив школьный рекорд на 300 метров, пробежав дистанцию быстрее сорока трех секунд.
В двенадцать лет!
Потрясающий результат для его возраста.
Однако по мере взросления на него перестали действовать "хитрости" Семёна Аркадьевича. Доходило до того, что он даже не ходил в школу во время соревнований, мотивируя это тем, что "физрук заставит его бежать на соревнованиях за школу". А у него после дистанции "ножки болят".
Другим, менее одаренным, но более трудолюбивым спортсменом, имеющим хорошие перспективы в легкой атлетике был Никита Старовойтов, одноклассник Максима Мячина.
Никита обладал редким даром – бежать по дистанции, не напрягаясь. Абсолютной скорости у него не хватало, зато он очень хорошо показывал себя в кроссах и в эстафетах, где требуется характер и выносливость. Несколько раз он становился призером районных соревнований в кроссе, и однажды вместе со своими друзьями-товарищами выиграл большую 15-этапную районную весеннюю эстафету.
Смотреть на его бег было и приятно, и интересно....
…Ушел из школы Никита после девятого класса, не реализовал в легкой атлетике и половины потенциала, заложенного в него природой.
Четвертым и последним "потенциальным легкоатлетом" стал Андрей Барбарош.
Нескладной, высоченный и скромный парень перевелся в школу в девятом классе. Прагматичный Семён моментально привлек самого высокого парны школы к игре в баскетбол. Правил Андрей не знал, дриблингом не владел, и на первых порах выполнял на площадке только одну функцию – ловил мячи, не попавшие в свое кольцо.
И – преуспел.
Прошло совсем немного времени, и парень, впервые увидевший баскетбольный мяч в девятом классе, уже начал подключаться в атаку, и нет-нет, да и забрасывал мячи в корзину, "снятые" им уже с чужого щита.
Заметив высокую работоспособность новичка, Семён начал брать его в дворец спорта "Сибирь", на беговые тренировки.
Бегал Андрей тяжело, коряво, нескладно.... Но Семён Аркадьевич, понимая, что Андрей Барбарош – это все-таки не Альберто Хуанторена, хотя ростом его даже превосходит, своего ученика длинными отрезками не перегружал, больше времени старался уделить специальным беговым упражнениям и пробежкам " в ритме", постепенно формируя у него способность к быстрому и свободному бегу на высокой скорости.
И однажды Барбарош его удивил.
В последних районных состязаниях по "чистой" легкой атлетике, до того, как на них наложил "вето" хитромудрый руководитель МО, он едва не попал в число призеров в беге на 300 метров. До третьего места не хватило каких-то десятых....