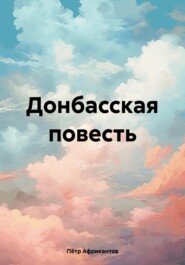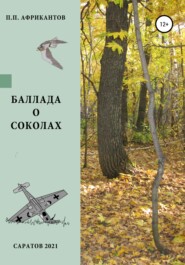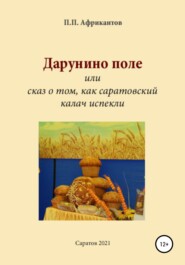По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Старый дом под черепичной крышей
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Доцент рукопись ищет, – пояснил Гуделка.
– Зачем-то факел зажёг?
– Чтоб светлее было, – пояснил Гуделка.
– Смотри, он тычет факелом во все углы хибарки, – и Свистопляс схватил Гуделку за руку. – Что он делает!? – удивлённо воскликнул Свистопляс.
– Он не нашёл рукопись профессора и потому решил сжечь жилище, надеясь, что вместе с ним сгорит и рукопись… – ответил Гуделка. – А мы-то думали, что он её будет куда-то прятать.
Через несколько минут хибарка была объята пламенем, а доцент всё из неё не выходил. Он продолжал ходить по жилищу, пытаясь зажечь в нём всё, что имеет способность гореть.
Эдуард Аркадьевич видел, что стены уже загорелись, пламя охватило потолок, но он ещё медлил уходить. Он тыкал и тыкал факелом, проговаривая: «Чёртов бомжатник, проклятая рукопись, поганая свалка,… пусть всё сгорит, всё…».
Огонь, охвативший строение, ещё более усиливал нервическое состояние доцента, притупляя инстинкт самосохранения.
– На тебе,… на тебе… – приговаривал он, тыча факелом в потолок, в картонную обивку двери. – Пусть всё сгорит,… всё…
......................
И тут Гуделка и Свистопляс испугались ещё раз. Они увидели как к горящей хибарке двумя огромными прыжками подскакал страшный клыкастый с длинной шерстью, большой гривой и горящими глазами зверь. Он остановился от неё на расстоянии одного прыжка и навострил уши. Огромный зверь втянул в себя воздух и, видимо, не почуял того, что должен был учуять, или пепел от горящего строения забивал его нос, только он стоял, не шелохнувшись, глядя то на горящую хибарку, то на вагончик, то на чёрные автомобили. Казалось, что он чего-то ищет, но огонь, дым и пепел мешают ему учуять необходимое. Казалось даже, что он не обращает никакого внимания на горящее строение и просто чего-то ждёт.
Немного погодя на пороге хибарки появился Забродин. Он улыбался. На его закопченном лице резко выделялись два ряда ослепительно белых зубов, пиджак на нём дымился, а в глазах было торжество. В его руках горело два бумажных факела. Эдуард Аркадьевич остановился, посмотрел на объятую внутри пламенем хибарку, на поблёскивающие вдалеке у ворот иномарки, на похожего на сфинкса зверя, затем, закинул голову, посмотрел на небо и, широко открыв рот, издал в его иссяня-чёрную пустоту гортанный победный клич. Он пребывал в неописуемом восторге. И этот нечеловеческий восторг пленил Забродина, отнял у него волю и самообладание. В этом восторге чувствовалась неземная сила, торжество и упоение сделанным.
Эдуард Аркадьевич бросил огарки факелов на землю и сделал шаг в сторону ворот, но тут же на его пути вырос громадный зверь; он шагнул в другую сторону и снова зверь встал у него на пути; в третью – повторилось тоже самое. Оставалось четвёртое направление – дверь горящей хибарки.
Забродин повернулся, посмотрел в открытую дверь строения. Внутри помещения пламя уже съело газетную и журнальную обклейку противоположной стены, освободив в ней нишу с позолотинской рукописью. Дрожь прошла по телу Эдуарда Аркадьевича. «Это она», – подумал он, и эта мысль как стрела пронзила его с головы до пят.
– Это она, – выдохнул он. – Вот провидческая справедливость! Вот взмах её огненных крыл! Рукопись надо непременно взять и посмотреть, – и он, пригнувшись, шагнул в горящее жилище. Дым застилал глаза, от жара потрескивали на голове волосы…
– Она! Она! Она!.. Как же я её раньше не увидел. Ещё непоздно… я успею. Её обязательно надо посмотреть… – повторял Эдуард Аркадьевич, прикрывая лицо от дыма и жара. Он схватил тлеющие листы и стал в них жадно всматриваться. Да, это были листы, исписанные рукой учёного, это Позолотинский почерк, эти ссылки и сноски, всё говорит о научной работе. И тут Эдуард Аркадьевич, выхватив из ниши листы рукописи, пустился с ними в пляс. Он плясал в охваченным огнём помещении и не мог остановиться. Он смеялся и, вытаскивая из ниши всё новые и новые листы, бросал их туда, где огонь горел сильнее всего. Злая радость блуждала у него на лице. – Ничего не надо спасать… ничего-о-о… – повторял он, глядя то на горящие листы, то в проём двери, напротив которого, на фоне чернеющего пространства горели оранжевым светом большие, с чайную чашку, глаза неведомого существа.
Через некоторое время огонь изнутри хибарки выплеснулся наружу, заплясал по крыше, занимая всё большее и большее пространство.
После того, как рухнула кровля строения, и в небо взвился большой клубок искр, зверь встал, повернулся и, сделав два огромных прыжка, исчез в темноте.
Гуделка и Свистопляс ничего не поняли, страх овладел ими. Они бежали прочь от этого страшного места, не оглядываясь и не останавливаясь. Они не заметили, как добежали до бочки, за которой совсем недавно сидели, и снова за неё спрятались.
– Погиб наш Эдуард Аркадьевич, – сказал Сима, подходя к машине директора и обращаясь к Фоме Фомичу.
– Как? – нервно произнёс директор, – испугавшись больше неожиданности произошедшего нежели чувствуя жалость к погибшему.
– Перенапрягся и сгорел вместе с хибаркой…
– Зря старался, бедолага, – не смотря на Симу и постукивая пальцами по рулю, проронил Фома Фомич. – Впрочем, огонь всех примирил. А говорят ещё, что рукописи не горят, дурачьё… Горят вместе со своими создателями, почитателями и противниками… Можно сказать – Эдуард Аркадьевич сгорел на научной работе, – и саркастическая усмешка пробежала по его лицу. Фома Фомич не торопился. Он решил сам проследить за действиями подчинённого и всё довести до конца.
– Пламя очень большое, как бы кто чего не заподозрил? – сказал Сима.
– Все знают, что здесь свалка, а на свалке всегда чего-нибудь жгут, – спокойно, не поворачивая головы, проговорил Фома Фомич. – Пусть догорает.
– А с ними что делать? – Сима кивнул он на стонущих на земле Крокыча и Позолотина.
– Сам знаешь! – отрезал Фома Фомич. – Кстати, спихни бульдозером бомжацкий курятник тоже в овраг, пусть там догорает, меньше вопросов.
Сима отошёл от Фомы Фомича, взял профессора за ногу и, не обращая внимания на его стоны, потащил к обрыву, куда сталкивали мусор. Там уже лежали связанные мальчишки, дворник и Пал Палыч, он их туда оттащил раньше. То же самое он проделал с Крокычем и Позолотиным, затем, подумав, открыл рядом стоящий контейнер, вытащил из него лопаты, вилы и грабли, ломом свалил контейнер на заднюю стенку, и стал укладывать в него ещё живые тела.
Сима не торопился. Спешить было некуда. Впереди была целая ночь и за эту ночь он успеет сделать всё. В это всё входило: завести трактор, на это не потребуется много времени, столкнуть бульдозером контейнер под обрыв, а затем туда же отправить кучи мусора от сломанного дома. Затем – всё хорошенько примять, чтоб из-под слоя мусора и земли не просочился ни один вздох или стон.
Красноватые отблески пламени, пожирающие всё, что осталось от хибарки, немного освещали и то место, где Сима решил захоронить жертвы. Языки пламени плясали над хибаркой в диком оранжевом танце, выхватывая из темноты опушку леса, противоположный обрыв оврага, отдыхающую технику и железобетонный забор. Они играли и на напряжённом лице Симы, решившем использовать контейнер, как своеобразный гроб для страдальцев. «Нельзя же так без гроба, – думал он, – всё же люди, человеки».
– Вот тебе и Муму, – проговорил он, втискивая профессора в контейнер, – Всё только моими руками, – ворчал он. – Вон сараюшку сожгли, людей покалечили, – а ты, Сима, хорони и живых, и мёртвых… Везде Сима. Когда я перестану всем быть должен? «А если всех одним махом, если и директора к ним же и всех одним разом,… и Сима будет совсем свободен и совсем независим, а?..»– подумал он». От таких мыслей Сима даже остановился, и тут же испугался их, потому что подумать такое он не мог даже в кошмарном сне. «Этак и до помешательства недалеко», – пришло ему в голову и он стал торопясь делать то, что ему приказал Фома Фомич.
Он сложил обречённых на смерть в контейнер, закрыл дверные створки и даже запер контейнер на замок. Для чего запер, он не знал, больше сделал это машинально, как привык запирать в этом контейнере свои лопаты, грабли и прочий нужный ему инструмент.
– Я вас не убивал, мужики,… – проговорил он натужно, – я вас только хороню. А хоронить, это не убивать, – говорил он то ли обречённым, что находились в контейнере, то ли самому себе в качестве хоть какого-то оправдания своих действий. – Вот такое Му-му, мужики. Му-му было проще.
После того как контейнер был заперт, Сима пошёл к бульдозеру и в это время, опять неизвестно откуда взявшийся, пудель, рыча, схватил его за штанину.
– Опять ты, – замахиваясь на пуделя, проговорил Сима. Но пудель не давал ему прохода. Он захлёбывался в гневном лае. Наконец Сима, изловчившись, ударил его ногой и тот, взвизгнув, отлетел в сторону. В это время Сима залез в кабину трактора, завёл мотор, включил передачу и, опустив нож, направил машину к контейнеру. В свете горящей хибарки было видно, как напряжено лицо Симы. В этот момент он ненавидел весь мир: ненавидел директора, которого тоже вместе с его «шевроле» готов был закопать в этом мусоре, ненавидел профессора с его сказками о иных цивилизациях, ненавидел самого себя, услужливо делающего мерзкую работу. На какие-то мгновения он вспомнил себя прежним бездомным попрошайкой и понял, как он низко пал по сравнению с тем самим собой, униженным, но таким свободным. Слёзы катились у него по щекам, это были слёзы жалости и неприязни к самому себе. Сима, сидя в кабине, оплакивал самого себя и свою идущую вкривь и вкось жизнь. Да, он ненавидел себя, но ещё больше он ненавидел этих людей в контейнере, праведных и чистых, и потому он сначала закопает их, а потом закопает себя, потому что так жить больше нельзя. Потому что все здесь ищут игрушку, а на него, Симу, всем под этими звёздами наплевать, устраивай, Сима, свою жизнь как хочешь, твои проблемы, но если ты оступишься, то мы тебя посадим или закопаем. Закапывать, конечно, будем не мы, но найдутся десятки таких Сим, которые послушно и услужливо сделают эту работу.
Сима до боли в пальцах сжал тракторные рычаги и всё двигал бульдозером контейнер к обрыву, а на контейнере, прыгая, злобно лаял белый пудель.
Трактор столкнул в овраг контейнер. После чего следом Сима ножом столкнул на него под обрыв и кучу мусора. Да, того самого мусора, который остался от дома на Большой Горной улице. После этого трактор, кляцая железными башмаками гусениц, подъехал к догорающей хибарке и лёгким движением блестящего ножа, в котором отразилось пламя, столкнул остатки догорающих стен в овраг.
Глава 55. Отрезвление
– Видел, – толкнул Муха Пегаса в бок, когда они перебрались на новое место.
– Вижу, не слепой, – через силу проговорил Пегас. – Вот мразь. И как таких земля держит. И он уткнулся лицом в бетонную плиту забора.
– Зря всё это, пошли скорее отсюда. Одни мы ничего не сделаем, они и нас кончат, – дрожащим голосом проговорил Муха.
– Действовать надо,… действовать, – и Пегас в отчаянье стукнул кулаком по бетонной плите.
– Ты что, решил чего?
– В город надо,… сообщить надо…
– А может, Пега, уйдём потихоньку, нас никто не видел и мы никого,… а?
– А Костян с Антохой должны в контейнере гнить? – зло проговорил Пегас.
– Мы всё равно ничего не сделаем, – убеждал Муха. – Свидетелей сам знаешь, убирают, а у Симы ружьё есть, сам говорил, не убежишь, а у этого жирненького может быть и пистолет имеется. Сам подумай, только быстрей думай, неровен час и нас обнаружат.
– Всё верно, Муха,… в милицию надо сообщить. Давай на шоссе, может, кто до города подбросит.
– Давай, – и они, скользнув вдоль стены, незаметно пролезли через собачий лаз, по которому недавно прошли на территорию свалки Гуделка и Свистопляс, вышли на шоссе и стали голосовать, но машины, как назло, не останавливались.
– Давай, Муха, бегом через лес, быстрее будет, – и они побежали в сторону леса и города.