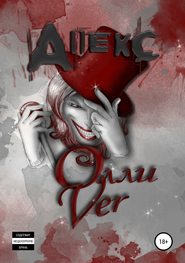По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Жена фокусника
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я приложила палец к крошечному скану на передней панели и двери послушно закрылись. Три секунды меня окружало полное молчание. Я даже не понимала еду ли я или стою на месте. А потом двери вновь открылись.
Тот же холл, но без охраны и с кучей денег, залитых в пол, потолок и стены красивым черным мрамором с белыми и серебристыми прожилками, массивные двери из темного, почти черного дерева, и вуаль серебристого света. На меня пахнуло роскошью от которой я не решалась сделать даже шаг. Я смотрела, как вьются по стенам узоры природного камня и не понимала, к чему все это? Что вообще происходит? Зачем я здесь?
Я закрыла глаза и глубоко вздохнула, а затем шагнула вперед.
Двери лифта закрылись автоматически сразу же за моей спиной. Стало тихо, как в склепе. Я огляделась – никого и ничего. Только огромные двери. Ну что ж, действительно сложно заблудиться. Я сделала несколько шагов и, не найдя дверной ручки, просто толкнула дверь. Она с трудом поддалась, впуская меня внутрь.
***
Я не слышала, как он вошел и снял обувь, не слышала звука тихих шагов по темно-коричневому дереву. Темноту ночи в огромной гостиной слегка разбавляет зарево уличных огней, льющихся снаружи сквозь стекла. Он бросает взгляд на диван, останавливается, улыбается и медленно идет к нему. Подойдя, он молча смотрит, расстегивая запонку левого рукава рубашки, затем правого, после чего не торопясь расстегивает пуговицы рубашки, снимает её и небрежно кидает на низкий столик, выкладывает телефон из кармана и кладет на рубашку. Затем он опускается на колени, которые утопают в мягком, густом ковре и наклоняется – тихий и нежный поцелуй касается губ, и если бы не знать этого человека, увидеть эту сцену первой и единственной, можно с уверенностью сказать, что молодой парень без ума влюблен.
От поцелуя я просыпаюсь. Открыв глаза я вижу его лицо перед собой, и первые несколько секунд просто смотрю на него. Такое красивое лицо. Его красота не имеет ничего общего с красотой Белки, чья приторная смазливость порой сводит скулы. Его красота – генетический шедевр, идеальная геометрия форм, восхитительная симфония линий, которые перетекают из одной в другую так гармонично, словно были нарисованы легкой рукой Создателя в мгновение истинного вдохновения. С какой любовью он рисовал его, сколько огня вложил в серые глаза.
Забыть бы все, что я знаю о тебе и любить до конца жизни. Пока смерть не разлучит нас.
– Знаешь, я тут думала… – прошептала я. Он вопросительно вскидывает брови и улыбается, ожидая, что же я скажу ему. Я продолжаю. – Ты предлагал пойти с тобой. Говорил, что сможешь дать мне необходимые знания и научить всему тому, что дает «Сказка» не вылезая из постели. И вот мне стало интересно, как? Как можно повторить все это будучи абсолютно голыми?
Он тихо засмеялся, и я поймала себя на мысли, что этот смех… по нему я скучала больше всего. В нем столько силы и спокойствия, что я невольно верю – он может защитить меня от всего на свете. Кроме самого себя. Он погладил меня по щеке (это не страшно, после этого больно не бывает) и сказал:
– Чтобы напугать, унизить и сделать больно, совсем не обязательно забрасывать человека на территорию старого завода. Я могу показать…
– Не надо, – быстро говорю я.
Улыбка медленно гаснет на его лице, уступая место похоти. Только в его исполнении похоть бывает совершенной.
– Боишься? – спрашивает он.
Я киваю.
Он облизывает губы и смотрит на меня, перескакивая взглядом от губ к глазам. Между нами искрит, как пробитая проводка. Хочешь меня?– Хочу… Мы как будто танцуем, наши взгляды сплетаются в вальсе, где каждое движение глаз, губ, языка, становиться столь ярким, что слов не нужно. Хочешь меня?– Хочу…
Его палец нежно гладит мою щеку. Он говорит:
– Хочу, чтобы ты боялась. Мне столькому нужно тебя научить… Ты будешь любить меня.
Он смотрит на меня и ласкает мое лицо.
– А ты? – спрашиваю я.
Он умеет быть таким нежным, как никто на всем белом свете, и сейчас рука, которая гладит мою щеку, красочнее любых слов признается мне в любви.
– А я, – снова блестящий язык скользит по губам. Мой похотливый щенок… – Я отдам тебе все, что у меня есть.
Я смотрю на него, и острая игла пронзает мое нутро.
– А куда как во все это великолепие вклинится твоя жена?
Сначала он просто смотрит на меня, а затем тихий смех разноситься в тишине комнаты. Он смеется и опускает голову вниз, качая ею. Он снова поднимает голову и смотрит на меня – его глаза улыбаются и так ласковы, что мне становиться еще больнее.
– Пойдем, выпьем кофе.
Он поднимается на ноги, подает мне руку, и я послушно встаю с дивана, и только сейчас понимаю, что уже ночь. Я еще раз оглядываю огромную гостиную – все дорого и огромно. Большой, широкий и удивительно мягкий диван с воздушными широкими подлокотниками и десятком подушек, выполнен в форме полукруга, обхватывает низкий, круглый журнальный столик. Темные стены, пол и высоченный потолок. Здесь вообще все выдержано в цветовой гамме крепкого кофе и темного шоколада. Только диван и пушистый ковер сливочно-кремового оттенка. Огромная плазма. Вся противоположная дивану стена – одно большое окно, и откуда-то снизу льется уличный свет. Оно открывает поистине незабываемый вид на всю территорию санатория – незабываемый он потому, что под ногами огромный город наслаждения и вседозволенности сверкает миллиардами огней, искрясь и переливаясь, но слева, там, где кончаются административные здания, раскрашенные как проститутки, выситься стена, в которой отчетливо видна металлическая дверь…
– Тебя так сильно волнуют условности… – тихо говорит он, и неспешно идет из гостиной в столовую. Я иду следом. Мы обходим большую лестницу на второй этаж, полукругом обвивающую всю гостиную.
– С каких пор женщина, с которой ты спишь, стала условностью?
– Ты видишь кого-то, кроме нас? – он оборачивается через плечо и, ловя мой взгляд на своей заднице, довольно улыбается.
– Нет, – отвечаю я.
– Значит – это условность.
– Глупости. Когда она выходит из комнаты пописать, ты что автоматически становишься неженатым на эти три с половиной минуты?
Он смеется. Мы проходим лестницу, идем широким, коридором и очень быстро оказываемся в столовой, соединенной с кухней. Здесь все стерильно – тут никто ни разу ничего не готовил. Он включает основной свет, но тут же приглушает его до мягкого полумрака.
– Кто она? – спрашиваю я, когда мы оказываемся по разные стороны длинного стола, выполняющего роль барной стойки условно отделяющего огромную кухню, то не менее огромной столовой. Тут же я мысленно матерю себя и посылаю себя ко всем чертям. Зачем мне это? Что мне даст имя его пассии? И какое мне вообще до этого…
– А тебе зачем? – лукаво щуриться он, и его улыбка становиться невыносимо высокомерной.
– Я просто не понимаю, для чего я здесь?
Он тянет руку к кофемашине, но на полпути останавливается, поворачивается и спрашивает:
– Слушай, а может по пивку?
– Максим, я задала вопрос.
Мгновение он смотрит на меня, раздумывая о чем-то, а потом отвечает:
– Ты здесь, потому что я так хочу.
Я закипаю мгновенно. Давно забытое ощущение беспомощности накрывает меня с головой и я, сидя в шикарных апартаментах, в тепле комфорте и уюте, снова чувствую себя загнанной в угол четырьмя подростками, на грязном, Богом забытом заводе, где смертью несет от каждого угла. Мне снова страшно.
Смирение, Марина.
Я пытаюсь взять себя в руки. Я пытаюсь, но это не так просто. Я всеми силами уговариваю себя, что могло бы быть гораздо хуже – опять оказаться по ту сторону забора, где нестерпимо воняет псиной и кровь впитывается в землю быстрее, чем вода. У земли за забором очень короткая память. Закрой рот и думай.
Смирение.
И я успокаиваюсь.
– А где сейчас твоя жена?
Он запускает кофемашину, и пока та перемалывает зерна, поворачивается ко мне и говорит:
– Меня удивляет твое желание строить загоны.
Тот же холл, но без охраны и с кучей денег, залитых в пол, потолок и стены красивым черным мрамором с белыми и серебристыми прожилками, массивные двери из темного, почти черного дерева, и вуаль серебристого света. На меня пахнуло роскошью от которой я не решалась сделать даже шаг. Я смотрела, как вьются по стенам узоры природного камня и не понимала, к чему все это? Что вообще происходит? Зачем я здесь?
Я закрыла глаза и глубоко вздохнула, а затем шагнула вперед.
Двери лифта закрылись автоматически сразу же за моей спиной. Стало тихо, как в склепе. Я огляделась – никого и ничего. Только огромные двери. Ну что ж, действительно сложно заблудиться. Я сделала несколько шагов и, не найдя дверной ручки, просто толкнула дверь. Она с трудом поддалась, впуская меня внутрь.
***
Я не слышала, как он вошел и снял обувь, не слышала звука тихих шагов по темно-коричневому дереву. Темноту ночи в огромной гостиной слегка разбавляет зарево уличных огней, льющихся снаружи сквозь стекла. Он бросает взгляд на диван, останавливается, улыбается и медленно идет к нему. Подойдя, он молча смотрит, расстегивая запонку левого рукава рубашки, затем правого, после чего не торопясь расстегивает пуговицы рубашки, снимает её и небрежно кидает на низкий столик, выкладывает телефон из кармана и кладет на рубашку. Затем он опускается на колени, которые утопают в мягком, густом ковре и наклоняется – тихий и нежный поцелуй касается губ, и если бы не знать этого человека, увидеть эту сцену первой и единственной, можно с уверенностью сказать, что молодой парень без ума влюблен.
От поцелуя я просыпаюсь. Открыв глаза я вижу его лицо перед собой, и первые несколько секунд просто смотрю на него. Такое красивое лицо. Его красота не имеет ничего общего с красотой Белки, чья приторная смазливость порой сводит скулы. Его красота – генетический шедевр, идеальная геометрия форм, восхитительная симфония линий, которые перетекают из одной в другую так гармонично, словно были нарисованы легкой рукой Создателя в мгновение истинного вдохновения. С какой любовью он рисовал его, сколько огня вложил в серые глаза.
Забыть бы все, что я знаю о тебе и любить до конца жизни. Пока смерть не разлучит нас.
– Знаешь, я тут думала… – прошептала я. Он вопросительно вскидывает брови и улыбается, ожидая, что же я скажу ему. Я продолжаю. – Ты предлагал пойти с тобой. Говорил, что сможешь дать мне необходимые знания и научить всему тому, что дает «Сказка» не вылезая из постели. И вот мне стало интересно, как? Как можно повторить все это будучи абсолютно голыми?
Он тихо засмеялся, и я поймала себя на мысли, что этот смех… по нему я скучала больше всего. В нем столько силы и спокойствия, что я невольно верю – он может защитить меня от всего на свете. Кроме самого себя. Он погладил меня по щеке (это не страшно, после этого больно не бывает) и сказал:
– Чтобы напугать, унизить и сделать больно, совсем не обязательно забрасывать человека на территорию старого завода. Я могу показать…
– Не надо, – быстро говорю я.
Улыбка медленно гаснет на его лице, уступая место похоти. Только в его исполнении похоть бывает совершенной.
– Боишься? – спрашивает он.
Я киваю.
Он облизывает губы и смотрит на меня, перескакивая взглядом от губ к глазам. Между нами искрит, как пробитая проводка. Хочешь меня?– Хочу… Мы как будто танцуем, наши взгляды сплетаются в вальсе, где каждое движение глаз, губ, языка, становиться столь ярким, что слов не нужно. Хочешь меня?– Хочу…
Его палец нежно гладит мою щеку. Он говорит:
– Хочу, чтобы ты боялась. Мне столькому нужно тебя научить… Ты будешь любить меня.
Он смотрит на меня и ласкает мое лицо.
– А ты? – спрашиваю я.
Он умеет быть таким нежным, как никто на всем белом свете, и сейчас рука, которая гладит мою щеку, красочнее любых слов признается мне в любви.
– А я, – снова блестящий язык скользит по губам. Мой похотливый щенок… – Я отдам тебе все, что у меня есть.
Я смотрю на него, и острая игла пронзает мое нутро.
– А куда как во все это великолепие вклинится твоя жена?
Сначала он просто смотрит на меня, а затем тихий смех разноситься в тишине комнаты. Он смеется и опускает голову вниз, качая ею. Он снова поднимает голову и смотрит на меня – его глаза улыбаются и так ласковы, что мне становиться еще больнее.
– Пойдем, выпьем кофе.
Он поднимается на ноги, подает мне руку, и я послушно встаю с дивана, и только сейчас понимаю, что уже ночь. Я еще раз оглядываю огромную гостиную – все дорого и огромно. Большой, широкий и удивительно мягкий диван с воздушными широкими подлокотниками и десятком подушек, выполнен в форме полукруга, обхватывает низкий, круглый журнальный столик. Темные стены, пол и высоченный потолок. Здесь вообще все выдержано в цветовой гамме крепкого кофе и темного шоколада. Только диван и пушистый ковер сливочно-кремового оттенка. Огромная плазма. Вся противоположная дивану стена – одно большое окно, и откуда-то снизу льется уличный свет. Оно открывает поистине незабываемый вид на всю территорию санатория – незабываемый он потому, что под ногами огромный город наслаждения и вседозволенности сверкает миллиардами огней, искрясь и переливаясь, но слева, там, где кончаются административные здания, раскрашенные как проститутки, выситься стена, в которой отчетливо видна металлическая дверь…
– Тебя так сильно волнуют условности… – тихо говорит он, и неспешно идет из гостиной в столовую. Я иду следом. Мы обходим большую лестницу на второй этаж, полукругом обвивающую всю гостиную.
– С каких пор женщина, с которой ты спишь, стала условностью?
– Ты видишь кого-то, кроме нас? – он оборачивается через плечо и, ловя мой взгляд на своей заднице, довольно улыбается.
– Нет, – отвечаю я.
– Значит – это условность.
– Глупости. Когда она выходит из комнаты пописать, ты что автоматически становишься неженатым на эти три с половиной минуты?
Он смеется. Мы проходим лестницу, идем широким, коридором и очень быстро оказываемся в столовой, соединенной с кухней. Здесь все стерильно – тут никто ни разу ничего не готовил. Он включает основной свет, но тут же приглушает его до мягкого полумрака.
– Кто она? – спрашиваю я, когда мы оказываемся по разные стороны длинного стола, выполняющего роль барной стойки условно отделяющего огромную кухню, то не менее огромной столовой. Тут же я мысленно матерю себя и посылаю себя ко всем чертям. Зачем мне это? Что мне даст имя его пассии? И какое мне вообще до этого…
– А тебе зачем? – лукаво щуриться он, и его улыбка становиться невыносимо высокомерной.
– Я просто не понимаю, для чего я здесь?
Он тянет руку к кофемашине, но на полпути останавливается, поворачивается и спрашивает:
– Слушай, а может по пивку?
– Максим, я задала вопрос.
Мгновение он смотрит на меня, раздумывая о чем-то, а потом отвечает:
– Ты здесь, потому что я так хочу.
Я закипаю мгновенно. Давно забытое ощущение беспомощности накрывает меня с головой и я, сидя в шикарных апартаментах, в тепле комфорте и уюте, снова чувствую себя загнанной в угол четырьмя подростками, на грязном, Богом забытом заводе, где смертью несет от каждого угла. Мне снова страшно.
Смирение, Марина.
Я пытаюсь взять себя в руки. Я пытаюсь, но это не так просто. Я всеми силами уговариваю себя, что могло бы быть гораздо хуже – опять оказаться по ту сторону забора, где нестерпимо воняет псиной и кровь впитывается в землю быстрее, чем вода. У земли за забором очень короткая память. Закрой рот и думай.
Смирение.
И я успокаиваюсь.
– А где сейчас твоя жена?
Он запускает кофемашину, и пока та перемалывает зерна, поворачивается ко мне и говорит:
– Меня удивляет твое желание строить загоны.