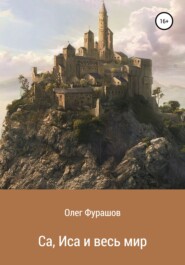По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Хирурги человеческих душ
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– У меня голова заболела, – прошептала она, прижимая пальцы к вискам. – Зачем ты мне это рассказал? Я не имею в виду твоего отца, – спохватилась она, опасаясь быть неправильно понятой. – Он у тебя настоящий мужчина. Зачем эти жуткие подробности? Некрасивые подробности. Они унижают… И потом, ты, кажется, упустил первоначальную цель рассказа. Причём здесь прокуратура?
– Ничуть не бывало, – возразил ей Алексей. – Притом. Похоронив отца, мы с мамой стали искать правду. Но отовсюду нам отвечали, что пьяный скотник погиб по собственной безалаберности, а за батю нам назначили пенсию по случаю потери кормильца. Мол, чего вам ещё-то надо? И правды мы добились не в ЦК КПСС, откуда жалобы отсылались по инстанции, а в генпрокуратуре. Их задело, что какой-то салажонок бьётся за честь отца. И они взял мою жалобу под контроль. Тогда-то главного инженера совхоза и заведующую фермой и отдали под суд. Хотя и дали условные сроки.
– Как всё это ужасно! – прошептала Серебрякова.
– С каждой нашей встречей, Танюша, ты всё яснее понимаешь, – продолжал монолог Подлужный с некой затаённой болью и странной гордостью, – что я не аристократ. Не чистоплюй. Не лощёный денди в лайковых перчаточках. Что я – плоть от плоти простого народа. И, прости за высокие слова, своё служение вижу именно в наведении справедливости. Справедливости по закону. Потому я обязательно стану прокурором. Само собой, начну с прокурора района. Но добьюсь того, что стану генеральным прокурором СССР. Не для себя. Для страны.
– Алёшенька, – спрятала от него своё лицо в ладонях девушка. – Ты хочешь быть прокурором, возиться с трупами, со всякой гадостью, с мерзостью… Ничего себе стезя – с уголовниками якшаться. Я боюсь, что из-за этого даже… могу тебя разлюбить.
– Что ж, – непривычно жёстко и резко отчеканил тот. – Твоё право. Причаливать к берегу надо осознанно. Сейчас ты знаешь, в чём я вижу своё призвание. И тебе следует либо принять меня вместе с ним, либо отбросить и то, и другое.
То была их первая размолвка за последние месяцы безоблачного счастья. И они полчаса тяжко брели, не разговаривая. Однако затем Татьяна взяла Алексея за руку, поцеловала его и сказала:
– Да будет так. Я согласна быть женой прокурора. И генерального прокурора – тоже.
– Ура-а-а! – заорал во всю мочь Подлужный, приводя в невменяемое состояние стайку непуганых ополоумевших старушек, чинно сидевших на лавочке.
Он схватил любимую в охапку, стал её целовать и кружить на руках. И они, беззаботно смеясь, вновь отправились гулять по бульвару.
«Интересно было бы узнать, что-то сейчас поделывает профессорская дочка Танечка Серебрякова», – отвлекаясь от реминисценции солидной давности, с ностальгией подумал Подлужный, прижимаясь носом к трамвайному окну.
Глава шестая
1
Подлужный заблуждался, оптимистично ожидая нескончаемого потока откровения и стремления к мщению от женщин, некогда водворённых в вытрезвитель. Не тут-то было.
Во-первых, большинство из них, ни за какие коврижки, не желало возвращаться к позорной странице автобиографии, рискуя превратить её из приватной истории, в достояние общественности. Находились и такие «экземпляры», которых приходилось неоднократно вызывать письменно, а затем и устно – по телефону, угрожая приводом. Но и явившись по вызову, немалая часть из них мялась, порывалась открыться, даже пыталась выведать у следователя детали про «смазливого милиционера», и… удалялась неисповеданной, зато сохраняя в неприкосновенности изнанку души.
Во-вторых, далеко не каждая из несчастных воистину совершала «моцион до клозета», в процессе которого «почётный эскорт» им составлял Воловой.
В-третьих, по-видимому, далеко не всегда обстоятельства дежурства складывались благоприятно для похотливого сержанта.
И, наконец (да простится столь пенитенциарное сравнение), исследуемый контингент составляли также те, кто не в состоянии были заинтриговать даже распутного «стража публичной трезвости». Таковые составляли ничтожное меньшинство. Но составляли.
«Мы вскрыли Клондайк литературных типажей! – восклицал Подлужный, обращаясь на досуге к практиканткам Юлии и Александре по поводу последней категории вытрезвленных фемин. – Мы с вами, славные мои помощницы, лицезрели падших и разложившихся алкоголичек, достойных пера Максима Горького, дабы он начертал часть вторую человеческой драмы под заглавием «На дне». Перед нами фланировали порочные и испорченные натуры, сгорающие от ненасытной страсти к зелёному змию и к другим… нехорошим излишествам. Чаю, что они вполне бы вдохновили Александра Ивановича Куприна на написание «Ямы» на современный лад, Ги де Мопассана – на новеллу про «Пышку», а графа Льва Николаевича Толстого – на новую версию о Катюше Масловой. Века минули, а в человеческой сути мало что меняется…».
Практикантки, внимая куратору, заполняли очередные повестки и с иронией хихикали. И было от чего. Ведь высокопарные сентенции Алексея прикрывали разочарование и проистекали от того, что опыт общения с «вытрезвленными особами» до поры не приносил практической отдачи. И всё же… И всё же… И всё же на «номере» восемьдесят седьмом, под которым числилась фрезеровщица мотовозоремонтного завода Скокова Надежда Ивановна, произошёл прорыв.
– Какой я свидетель? Ничего я не видела, ничего не знаю и ничего знать не хочу! Что за уголовное дело? – шумно возмущалась Скокова, размахивая повесткой и розовея грубоватым, моложавым и аляповато подкрашенным лицом.
– Присядьте, Надежда Ивановна, – вкрадчиво пригласил её к приставному столику Подлужный, моментально разобравшись, что за вызывающе громогласной маской кроется, напротив, весьма стеснительная натура. – И тише, пожалуйста. Мы же не в заводском цехе. Шум станков нам не мешает. Я слышу вас, вы слышите меня.
– Ладно, – приутихла Скокова. – Присяду.
И она заняла место на стуле перед прокурорским работником, без конца одёргивая и поправляя на себе юбку.
– Надежда Ивановна, – делая значительное выражение лица, разворачивал нить беседы следователь, – вы ещё не ведаете, что нам предстоит обсудить, а заранее отнекиваетесь. В повестке же я не имел права писать о том, что составляет тайну следствия. Разговор у нас должен состояться доверительный. Во всяком случае, мне бы того хотелось. Речь пойдёт об эпизоде, не слишком для вас приятном. Потому заблаговременно предупреждаю, что нас в нём в первую голову, именно в первую голову, интересуете не вы, а иная личность. Иная личность. Сейчас, надеюсь, вы догадаетесь, куда я клоню. Скажите, пожалуйста, 2 февраля 1986 года вы попадали в медицинский вытрезвитель Ленинского райотдела?
– Попадала! Ну и что, – нахмурившись, с прежним вызовом ответила фрезеровщица. – Я за то уже отхватила, что мне причиталось.
– Вот именно, Надежда Ивановна. Вот именно. Вы-то отхватили, а кое-кто до сей поры не отхватил, – сделал многозначительный упор на окончании предложения Подлужный. – Я, разумеется, сознаю, Надежда Ивановна, что для того, кто впервые угодил в вытрезвитель, обстановка вообще нова и непривычна. И всё же, при пребывании в нём, не показалось ли вам нечто, ну явно выходящим за рамки установленного порядка?
– На что вы намекаете? – «навострила ушки» Скокова.
– Допустим, при помещении вас в палату, при раздевании, при отправлении естественных надобностей, при составлении акта, при выписке, вас ничто не удивило? Или, более того, не оскорбило?
– В уборной, что ли?
– Может статься и в уборной. Вам виднее. Я же лишён права наводить вас на ответ… На подсказку…
– Ой! – забеспокоилась фрезеровщица. – Вам шепни, а вы – по секрету всему свету. А то засмеёте меня: «Мастерица же ты насчёт подзагнуть, Скокова! Ври, да не завирайся». Или запишите чего не так.
– Наде-е-ежда Ивановна! – с укоризной произнёс Подлужный. – Пока я вообще не пишу. И протокол не достал. Да и тайны хранить, я не только научен, но и обязан – по долгу службы. Коль наш задушевный диалог дойдёт до записи, то непременно с вашего согласия. И ведомо про него будет лишь избранным: тем, кто имеет доступ к материалам по уголовно-процессуальному закону. А то, может статься, вам в вытрезвителе столь по нраву пришлось, что и предмета для претензий нет?
– Ааа! – преодолела колебания Скокова, будто саблей рубанув воздух ребром ладони. – Только раз бывает в жизни счастье! Девка я незамужняя, семерых детишек по лавкам нетути. Я вам обскажу, а вы, покуда, не пишите.
– Слушаю и повинуюсь, – на полном серьёзе воспринял её пожелание следователь, и убрал авторучку в выдвижной ящик своего большущего старорежимного канцелярского стола.
– Второго февраля у Ленки Ознобихиной мы отмечали день рождения, – в напряжённом воспоминании закатила глаза под самый лоб рассказчица. – Мы в её комнате, в общаге, посидели, выпили. Всё путём. Нас, девок, шестеро набралось, а парней – двое. Один – Ленкин, второй – Машкин…Неважно. Короче, пошли мы с Валькой Пахтусовой обратно вдвоём. Уже часов одиннадцать было – ночи, естественно. Мы автобус ждали-ждали, да и ломанули пёхом. Прёмся, хохочем, толкаемся, балуемся. И налетели на старушляндию одну. Она, должно, от царя Гороха уцелела. Налетели, значит, ненароком мы, а старушляндия пала. Свалилась, вскочила, да как подняла хай – во всю ивановскую! Нам с Валькой на головы, откуда ни возьмись, доблестные… милиционеры попадали, ровно десантники с неба. И упекли нас в вытрезвиловку. Там то да сё… Это неважно. Ночью я продыбалась с бодуна, да вдобавок мочевой пузырь арбузом раздулся. Тронь – лопнет ровно воздушный шарик. Я – к дверям, а там… хи-хи… мильтон «на часах» дежурит. Я ж голышом, в простынку укуталась, что та индианка в сари. Прошусь: мол, до ветру хочу. Он приветливый такой: «Завсегда… Пожалте…». Заводит меня в уборную, а дверь за нами на ключик – чик!
Дальнейшее изложение событий Скоковой, с незначительными отклонениями, повторяло историю Регины Платуновой.
– Я вас правильно понял, – уже занося показания свидетеля в протокол и получив на то «высочайшее соизволение» фрезеровщицы, уточнял следователь, – вы позволили постовому совершить половой акт при том условии, что он избавит вас от отправления письма из вытрезвителя на вашу работу?
– Да. Так-то я не хотела. А он пообещал. Сулил, что я только заплачу деньги за ночёвку.
– И бумага на завод не поступила?
– Нет. Я ждала. Боялась, до родимчика: вдруг поступит казённый конвертик. Или он заразный какой… Ну, тот, который сексуально озабоченный. Мильтон-то… Нет, пронесло. Вы, наверное, считаете, что я вру? Письма же на работу нет… И ему я сама… того… Дала…
– Почему же, – на минуту приостановил фиксацию показаний Алексей, разминая затёкшую руку. – Не вы первая, к сожалению, сообщаете мне такие детали, что их самый отчаянный лгунишка не выдумает. И потом, отрицательный результат – тоже результат. Осмотрим журнал исходящей корреспонденции. Предположим, письмо значится отправленным на мотовозоремонтный завод. Берём журнал входящей корреспонденции на вашем предприятии и выявляем, что депеша не поступала. Результат? Ещё какой! Вы мне, пожалуйста, вот что поясните: при половом акте… или до него… постовой часы с руки не снимал?
– …Н-нет, не снимал. Мне как-то не до часов было, врать не стану. «Под градусом» ведь была. Да и полтора года уже прошло. Что осело внутри, то и сказала.
– Надежда Ивановна, а подружку вашу милиционер в туалет не водил?
– Нет. Она до утра продрыхала. Это я, сдуру, пива у Ленки налакалась. А Вальке-то, как нас выпустили, я про «кувырок» в уборной сказывала.
– Тэк-с! – удовлетворённо отметил последнюю реплику Подлужный. – По всему выходит, что лежит вашей подружке дорога в казённый дом – то есть к нам.
– Дык она и так на завтра к вам повестку получила.
Закрепив показания Скоковой, следователь пригласил к себе Юлию Камушкину и Александру Зимину, трудившихся в кабинете старшего помощника прокурора Вересаевой, для участия в качестве понятых при опознании «сексуально озабоченного» по фотографии. Взглянув на фототаблицу, фрезеровщица практически без раздумья ткнула указательным пальцем на объект под номером четыре:
– Вот он, сладострастный! Сопел и дрожал, ровно припадочный или под электротоком. Аж спину обслюнявил… Ф-фу!
– Попрошу вас, гражданка Скокова, – официально обратился к ней Подлужный, – конкретизировать, по каким признакам вы опознали лицо, выводившее вас в туалет, а также прочитать на обороте фототаблицы, кто значится под номером четыре…