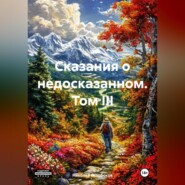По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сказания о недосказанном. Том I
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Объясни, втолкуй мне. Ты всегда даёшь ответы на все наши вопросы.
– Ну, вот штука, дед, когда с тобой едем, всё в ажуре. Сколько раз уже было. А?
– Ты что колдуешь?!
– Нет, я прошу всегда Ангелов Хранителей. Они помогают.
– Я тоже читаю, и хрен два, твои Ангелы мне не помогают.
– Ты же наверное, знаешь, что – то, другое, а нам не говоришь.
– Неет.
– А почему, сколько раз я читал, и всё равно эти дерут шкуру. Давай им еврики. Гады, хапуги. Какие это таможенники?
– Нет, скажи, как ты проезжаешь этот долбанный шлагбаум!
– Ну, прошу. Читаю, как ты учил, и всё равно канючат. Нихрена толку от этой процедуры.
– Хорошо. Вот подъезжаешь. Почитал, и, что дальше?
– Да ничего хорошего.
– Доезжаю, начинают шарить, что это? Что там? А с тобой, когда едем, не смотрят даже. Это уже не случайность?
– Хорошо. Проехал, ну и что. Проехал. И хрен ему.
– Я же видел с Алёшкой, когда вы ехали, он загрузил, так что ты лбом упёрся в лобовое стекло.
– Ну и что, проехали, пронесло.
– Даа, ты тогда проскочил удачно, хотя перегрузка была и с перебором.
– Ну?? Я вот об этом и толкую…
– А ты показал болта. Им. Вот вам! И ударил ребром по второй руке и сказал – показал, конскую, вам. Шакалы!! Ха – ха -ха. Хрена вам! Помнишь?
– Ну, даа, а что еврики им дарить таким трудом добытые?
– Нужно было благодарить Ангелов, а ты матерился, непонятно в чей адрес…
– Этим хапугам, конечно, я послал конского. Глянь, посёлок. Коттежики, машины иномарки, джипы, а зарплата малая, тогда откуда? Помнишь, ты сам рассказывал, какая твоя зарплата в лицее Выборга. Как ты жил в общаге с семьёй и на свалке, где мусорка, рамки с картинами, нет портретами, ты подбирал у помойных ящиков и радовался. Там портреты всяких наших бывших, выкидывали таможенники, да ещё, сколько там всего,– и кресла, и светильники. Мягкие уголки для дачи и домой. Всё это новое, в мусорку. А откуда, вот это наше, мы везём с кирпушек, магазины б.у. Они отнимают, лишнее говорят. Тащат домой. Ставят, размещают. Потом попадается лучшее, и того. Туда на помойку, а новое себе, себе. Вот, как и мучаются бедняги прожоры. А мы потом собираем.
– В городе, ты знаешь, дом пограничников там стоит, пять этажей, так под новый год все из домов, где живут люди, гражданские, выползали, выбегали все, тридцать первого. Они, погранцы, таакой устраивают всегда салют, что в Питере и в твоём любимом Севастополе не увидишь. Тоже,– кон – фис – каат. У нас же и отнимали,– не положено… а твои работы у финнов предлагали в музей,– твой, твоих работ… твой музей, здание хорошее рядом с Рерихом. Зря ты отказался.
… А? Какая это жизнь, и, это таможня? Такие вещи выбрасывают! А ты рад, можно загрунтовать, чесночком, портреты с помойки, и, и писать свои, которые уже сейчас достойны, в музей. Помнишь, рассказывал, как обработал чесноком, учили московские реставраторы, иии, пошёл по незабываемым дорогим лицам, свои картины… молчи, не защищай. Не мешай, я в сердцах, переживаю, не коньяк, но бодрит. Хоть не засну. Опасно. Да ещё рано, не хочу слушать с закрытыми глазами твою классику, ты рассказывал про какогото моо, моц. Забыл. Ну, вспомни!
… -Да есть такое, Моцарт. Реквием. Да?
– Да. Да. Да пошёл ты со своим похоронными частушками, хоть и Моцарта своего. Лучше пусть Алла поёт про свои розы…
– Серёжа, проснись, не буйствуй. Давай про своё. Ты и про Ангелов забыл, что помогли. Вот в чём дело. Их, надо всегда благодарить, а не бранить таможню или кого другого.
– Да ну тебя. Не пудри мне мозги.
– Не гони на меня туман, и так пурга, белого света не видать. Расскажи лучше что – ни будь, таккоее, чтоб я не заснул. Небойсь, в молодости ух, давал дрозда! А то заснём и трындык, отъездились.
… – Когда же эта хорошенькая дороженька уже закончится. Вон смотри, как закручивает метель, путь как туманом покрыт, белым, чистым. Вот это пурга. Вот это асфальт ровненький.
И снова тишина. Невесомость. Метель и снег, он, дед, в салоне сидел, а сам летал в мечтах и чувствовал аромат своего горного Крыма. Ветерок отопления в машине проходил сквозь чётки, сделанные из древесины крымского можжевельника, развесил хозяин на зеркале в салоне, у лобового стекла, и это скорее усыпляло и уносило в другое – царство, моря солнца и тепла. Не керосинового, бензинового, а того южного ласкового солнышка, где родился и там жил тогда дед.
– Ты что опять задремал?
– Неет, я думаю, я улетел.
– Смотри, твою мать, что бы мы оба не улетели. Видишь пурга, а Финны не передавали штормового предупреждения.
– Метёт. Красиво, метёт.
– Ну, давай, давай, да пощекотливее, про баб.
Снова пурга и мало встречных слепящих фар.
– Ну, ладно, Серёж, про баб, так про баб. Расскажу тебе только про одну, которая, на крылышках любви летала, летала…
– Смотри только не открой кингстоны, от страха…
–Тогда высажу, лети с ней домой, хоть на ступе, термоядерной.
– Так ты же просил про баб, а мы танцевали с девочками, там и знакомились и летали, кружились,– вальс, как пташки или пчёлки.
– Сергей осерчал, и резко тормознул, что бы я лбом поцеловал лобовое стекло. Не зря же его так окрестили юмористы, лобовое, хорошо хоть не лобное, которое на площади Красной красуется века. Думали, чтоб люди,– всё для народа… всегда готовы, воспитательные меры.
…Дед потёр лоб и запел.
– Белым снегом,
– Белым снеегооом,
– Замела метель дорожку,
– Замелааа…
– Брось ты этот отвлекающий фактор,– аппендикс.
– Давай дело, а ТОО! Закувыркаемся! Давай не тяни, лучше взбодримся, а не прилунимся.
– Ладно, Серёжа.