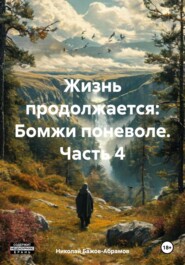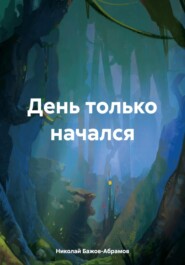По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Что имеем, не храним, потерявши – плачем
Год написания книги
2025
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Могилу мамы, он отыскал без труда. Ее и не надо было искать. Она была похоронена в той части кладбища, где её мама, была похоронена. То есть, бабушка его, которую он помнил, конечно, смутно. Но все равно ему было страшно подходить к могиле сейчас. Почему она умерла, ему еще предстоит узнать, когда домой придет, сходит, вынужден он дойти до него, поговорит с отцом. А пока положил на мамину могилу венок, привезенный им собою, из города. Прикрепил, прижав холодными комками глины. Его даже не удивило, что могила мамы сейчас была голая, с возвышающей глиной земли. Выходило, никто ей на могилу не положил венок, после закапывания ямы. А так, над её могилой, было тихо.
– Пойду я, мама, – шёпотом говорит он, пятясь задом.
Затем, выходя из калитки кладбища, и поправляя на плече сумку, тихо бредет в задумчивости по дороге.
От самого кладбища, деревня его, в пятистах примерно шагах. Дорога шоссейная. Нелегко шагать ему, по этим камням, вымощенным. Но тут ему, уже немного уже осталось. Скоро дом его родительский будет виден. Тихо вокруг, уныло. Ни одного живого на его пути. Будто все вымерло. Да тут и кустов не было. Все было как на ладони. Идущий по дороге человек, далеко был виден.
Когда он вошел на свою улицу, а улица, родительского дома, стояла почти в центре. Там же, поодаль, размещался в старину, при советах: правления колхоза. Он и сейчас стоял приземисто, как усталый путник, остановивший передохнуть от дальней дороги; магазин, чуть в стороне, перед школьными садами, – отгороженный забором. Штакетники от забора, уже от старости вылиняли, грибками обросли, смотрелись серовато.
К своему родительскому дому, он подошел в одиночестве. Никто из соседей не выбежал. Хотя и, видимо, деревня же, из окон домов наблюдали, отогнув чуть белую занавеску, и, конечно, узнали, кто по улице идет, но все равно никто не выбежал. Или, а и правда они, боялись сейчас, грозного вида младшего Куренкова, или просто замешкались, от неожиданного воскресения его тут, посреди деревни. Но, как бы там не было, все же пришлось ему в одиночестве дошагать до дома родного крыльца. А у крыльца, будто он кем – то остановленный, усталым взглядом осмотрелся по сторонам. Затем, вздыхая, опустился на верхней ступени, крыльца. В дом, сразу зайти, почему – то ему, вдруг стало страшно. Хотя и знал, дом никогда не запирался. Деревня же. Что там было красть. Сидеть тут на крыльце, конечно, ему, а и правда, несвойственно. Но, а что ему было делать? У него просто сил не было, заставить себя войти в дом. Он знал, его там никто не встретит, не улыбнется, не вскрикнет, не обнимет. И даже, не выбежит навстречу, распахнув руки, а торчать там, в пустом доме – это так ему страшно. Натыкаться на фотографии родных людей, на передней стенке комнаты, где обитала его мама. Там он знает, и его фотография висит, по окончании средней школы. Мама,– помнит он, – сама на стенку приклеила это фото, на видном месте, чтобы каждый раз видеть его.
Ладно уж, посидит он тут. Отдышится. Может, кто из соседей вылезет потом из дома, подойдет, поздоровается.
Сигарету он уже выкурил. Видимо, все же нервы, снова он полез в карман за сигаретой. Отправил в рот. Прикуривая сигарету, заметил, как от соседей, в окне, мелькнула тень. Затем выбежала из темного проёма двери сенца, и эта соседка, которая известила его своим письмом о смерти его мамы.
*
– Володька! – вскрикивает она, подбегая к крыльцу, где он сидел.
– А, это вы, Мария Петровна, – отзывается ей, Куренков. – Приехал, вот, по вашему письму. Почему не дали сразу телеграмму? Папа, что он совсем «чиканутый» у нас? Не понимает, я еще есть? Он все также с нею живет?
– Живет, Володька. Живет, антихрист. Запретил он нас, дать тебе телеграмму. Это я уж потом. Извелась. Спать не могла. Написала к тебе письмо. Ты разберись. Слышала, они хотят переехать в этот каменный дом. Разберись, разберись, – говорит она, хватаясь за свою тощую грудь. – Ты надолго – то приехал?
– Не знаю. Учусь я еще. Сами знаете.
– Поняла, поняла Володька. Подымайся. Войдем в дом. Неудобно. Люди видят. Ладно,– дёргается она. – Чуточку погодь, сейчас я. До дома добегу. Я быстро. У тебя ж там поесть, ничего нет. Ты ж с дороги голодный. Господи! Я сейчас, – И ничего не говоря, бежит обратно к себе. Вскоре, она снова показывается на улице, держа, в большой тарелке: кусок, какого – то сваренного мяса, яйца, хлеба и ведро воды.
– Кушать же ему надо, – говорила она на ходу, разговаривая с собою. – В доме у него, знаю, шаром покати, ничего ж нет. Горе – то, какое. Сидит. Пропадет ведь? Весь потемнел.
Раньше, в его памяти, она как – то тихая, вроде, была. Семья, конечно, у нее большая. Четыре рта. Два сына. Уже взрослые. Погодки почти его. И эти девочки, дошколята. Четыре рта. А с ними, шесть ртов. Слава бога, вовремя спохватились, в огороде, вроде, все посадили. Картошка своя. Лука тоже. Огурцы, помидоры, капуста, свекла, все свое. Еще на зиму, дополнительно, в хлеву, поросёнка держали. К зиме, с мясом будут. Еще и корова у них есть. Но, в этом году сухо было, сена мало сготовили. Придется ремни потуже затянуть им. Муж у неё, еще в силе, подрабатывает. Повадился, ездит на заработки, то в Москву, то, Нижний… недавно, вот, оттуда он. С деньгами приехал. Но больно уж сильно похудел, он там у неё. Видимо, на сухом пайке сидел. Глядеть на него больно. Говорит еще, к зиме поедет в Москву. Строить там какой – то дом. Дай бог, здоровье бы ему. Так рассудительно разговаривает, она сама собою, в каждый раз, когда он временно оставляет семью, отправляясь на эти вынужденные заработки.
Все это она, собрала на скорую руку. Что под её руку попадалась. Сыновья, уходя утром шабашничать – строили они у одного продвинутого местного попа, для него каменный дом, с основания, мясо не стали есть. На столе он так и остался. Никто не стал есть. Яйца приготовлены были для дочерей. Ничего, она еще до их школы, успеет сварить. Молоко у нее еще есть. «С голоду не помрут, – говорила она, торопливо собирая со стола, для Куренкова младшего этого кушанья. Она ведь догадывалась, он с дороги голоден. – Хорохорится сам еще. Присел, у всех на виду, на крыльцо, бросает вызов своему отцу. Господи! Что делается – то…»
Бесстрашная она была женщина в деревне. Все плачутся, от этой нынешней плохой жизни, ругают почем зря этого алкаша Ельцина, а после, за одной, и этого его преемника – премьера, в придачу. А если уж совсем ей плохо становилось, просто всем говорила: «Что плакаться, слезы напрасно лить. Никто ведь нас не поможет. Кому мы нужны теперь. Мы брошенные. Колхоза же нет». Муж у нее, последний раз шабашничал в Нижнем Новгороде. Денег в доме нет. Даже сахара купить, не было возможности. Дочери капризничают, кричат на нее. «Без сахара, чаю не будем пить». Нашла ведь выход. И деньги, кое – какие нашлись. Продала заезжим татарам барана, которые с рынком в районе связаны, последнего, который у нее, во дворе был, вышла из трудного положения. А там и муж приехал с деньгами. Немного привез, но было радостно ей, что в семье теперь, есть какие – то деньги. А Володьку ей, конечно, жалко. И с отцом его, теперь ей не понять. Мужик, как мужик был. Первый коммунист был в деревне. Пример с него все брали. А что учудил? Связался с этой, работающей в местной сельской администрации, то ли секретарем она там работала, то ли, еще кем.» Их там сейчас не поймешь, чем они там занимаются. Подобрали эту власть, делают, что хотят с нами»,– говорила она иной раз мужу, плача, на его груди, изредка навешавшей ей, из разных городов.
– Володька, – обращается она Куренкову, все еще сидящего на крыльце, у своего родительского дома. – Ты бы зашел в дом. Я тебе бы подогрела завтрак. Покушать же тебе с дороги надо. Что ж, ты так, убиваешь себя, – оттирая подолом мокрые глаза, говорит она, помогая подняться ему с крыльца. – Идем, идем в дом. Покушаешь, потом, делай, что хочешь. Хочешь, сходи к отцу. Поговорить надо тебе с ним. Он тоже теперь, отшивается в сельсоветских кругах. Не знаю, какую он должность там отхватил. Взяли его туда, люди говорили. Говорили еще, или просто болтают, эта его она способствовала, чтобы он там трудился.
– Схожу обязательно, Мария Петровна. Спасибо вам. Я сейчас заходил по дороге к маме, на кладбище. Венок я положил на её могилу. Почему она умерла? Она же еще молодая. Не болела? Не жаловалась?
– Спроси у отца. Он все знает. Знаю только. Об этом в деревне, вовсе болтают. И я молчать не буду. Накануне к ней, заходила эта, вертихвостка, с которой он теперь сожильствует. Не знаю. Что там между нею было? Этого я не могу сказать. Утром, после нее, мамка твоя, Володька, почувствовала себя плохо. Я была с нею тогда. К обеду, при мне, закрыла глаза. Так поспешно и, ее похоронили. Отец твой больше расстарался, чтобы её не резали.
С помощью Марии Петровны, он все же, чуть покушал. После, из самовара, который углем топился, попил и чая. Чуть, конечно, от этого завтрака взбодрился, почувствовал прилив сил. Затем снова, вместе с Марией Петровной, вышел на крыльцо, присел, закуривая свою очередную сигарету. Мария Петровна, ему ничего не сказала, что он, Володька, курить начал. Да и сыновья её, что уж там, тоже пыхтели. За бесплатно еще. Если верить сыновей. У попа, рядом с монастырем, был магазин. Там у него и спиртное продавался, и сигареты. За то, что они работают у него, он угощал их сигаретами, и водкой. Дома еще сдерживали себя, а на улице, оба сразу хватались за курево. По началу, она злилась, колотила их кулаком, непутевых, по спинам; смешно даже, отсылала воздушно еще попу свое проклятие, что курить он их приучил. Но толку. Вскоре отстала. Поняла, её доводы не доходят до них. Махнула на это рукою. «Главное, – говорила она себе, – голову не теряли, при нынешней такой жизни».
Гордилась она, конечно, сыновьями. Ну и что! Не всем же ученными быть. Кому – то надо работать и на земле. Слава богу. Оба рослые, здоровые. Не болеют. Год всего между ними разница. Скоро, старшему сыну, в Армию. Но ей, по-матерински, все равно страшно, как бы и её сына, не отправили служить в Чечню. Убивают же там солдат. По телевизору показывают. И сын, говорит. «Раз надо, куда я денусь, мама. А достать справку, как ты советуешь, кто её мне даст? Справку эту…». Пока не трогают, а завтра…
– Володька, ты как? Я пойду, может? Дома много дел. Да и дочерей надо в школу проводить. Ты как, здоров – то сам? Ладно. Попозже забегу. Расскажешь мне, как ты с отцом там поговорил.
Она уходит, а Володька все еще сидит, тоскуя своим вынужденным одиночеством. Он, конечно, понимал, разговор с отцом ему надо. Но проще было бы ему сейчас. Встать, схватить свою дорожную сумку, отправится назад в город. На кладбище был. Тут теперь, ему в деревне, просто делать нечего сейчас. Знал он. Отец ему при встрече, ничего нового, все равно, существенного не добавит. А смотреть на него, как он изворачивается от его ответа, этого удовольствия ему, даром не надо. Конечно, ему жалко, терять эти дома. Бревенчатый дом, еще добротный был. Еще несколько десяток лет простоит. Да и каменный, новый дом, было жалко ему терять. По сути, он, если откажется от этого добра, у него за душою ничего в перспективе не будет. Бомжатником, бездомным, по сути, окажется. А сегодня иметь свой собственный дом, пусть даже, если он совсем в город переберется, у него все равно не будет в обозримом будущем своего дома. На зарплату журналиста, где он сейчас учится и работает в областном городе, не заработать ему не в жизнь. А перебраться куда – то в Москву, как другие делают сегодня, на работу, он еще не закончил вуз. Так что, хочет он, или не хочет, а забежать в сельскую администрацию все равно ему придется, и переписать эти дома на свое имя, тоже, видимо, надо. Он не совсем же идиот. Но прежде всего, почему он так решил? Ни с того, ни сего, пришло ему в голову, позвонить к Моно Лизе, посоветоваться с нею, на счет этих домов. Почему он решил загрузить своими проблемами и её? Отчаяние? Или, тут, он почувствовал родственное к ней чувство? Так как она, его старше и опытнее в этих делах, что ли? Трудно было сейчас понять его логику.
– Ладно, – говорит он, отбрасывая потушенную сигарету перед собою. – Надо, когда – то, все равно, встретиться с отцом. Пусть это будет последним наша встреча, но надо все же, когда – то поговорить с ним.
Решительно встал, зашагал к направлению к сельской администрации. Хотя он и не уверен был, что отца в этот час застанет там. А пойти к ней, где он жил? С этой? Он знал её, и знал где она жила. Но как это получилось бы, эта его встреча у нее с отцом? Ему ведь сейчас, хотелось встретиться с ним, без постороннего глаза. А у нее, он отца знал, понимал, ничего там не добьется. Ему некуда идти, он зависим теперь от нее.
Улица, по которой он шел, был вымощен гравием, добытый из того карьера, в тех еще времен, когда в деревне колхоз тут был. Дорога не ровная, в колдобинах. Машин теперь больших, в деревне мало, не как, в прошлые те года, впору социализма. Их давно разграбили, сдали на металлом. Где – то, у кого – то еще, видимо, сохранились машины, выкупленные у колхоза, но теперь, что ими делать? Работы все равно в деревне нет. Потому и дороги такие тут, выходит. Под ногами попадались даже внушительные комки гравия. Он в таких местах,– он ведь под ноги не глядел, когда шел, – проскальзывал от этих комков, лавировал руками, чтобы не упасть.
Что интересно. Он на это особо обратил. Никого он в пути не встретил, пока шел сюда. Было пусто, как в пустыне. Только небо, высоко висело над его головою, высвечивая своим серо – голубым цветом. А дома, вокруг, будто как – то, были вымершие.
Так не бывает, он знал. Раз в деревне еще школа была, еще её не закрыли «либералы», и еще не успели превратить идиотов, подрастающего поколение, должно же быть в нем люди. Но где они? Даже возле школы их не видно. Или еще рано? Куренков посмотрел на часы на руке. Время на его часах, показывало половина уже восьмого. Время, конечно, еще мало. Выходит, сколько же времени, тут он уже в деревне? Четыре было, когда он сошел на станции, из поезда. Минут десять стоял еще, разговаривал вокзальным милиционером. Затем, поехали с Иваном, от той станции, в свою деревню. После еще на кладбище еще проторчал. Минут двадцать. Да и тут еще. С Марией Петровной. Выходит, время еще не так и много прошло. А тут, не переступая еще порог администрации, он уже понял, там заперто еще дверь. Так как, действительно, было еще рано, приступать к работе. Поэтому, чтобы не терять по напрасно время, он все же решился дозвониться до Моно Лизы, поговорить с нею, посоветоваться, что ему в таких случаях делать.
Подключилась на его звонок, она сразу. Будто она ждала, специально, в этот час звонка его.
– Снова привет, Володя. Ты что там сейчас делаешь?
– Стою у порога сельской администрации. Видимо, я рано подошел.
– От меня чего ты хочешь?
– Сам не знаю, чего я хочу от тебя, Лариса. Плохо мне. Дождаться тут отца мне, или плюнуть, все на это, отправится обратно в город?
– Ты ж хотел, Володя, переписать дом на себя? Так делай это. Что ж такого? Бомжатником, бездомным же, ты как я понимаю, не хочешь в будущем?
– Да я, понимаю, Лариса. Все правильно ты говоришь. Надо. Но чувствую я себя сейчас скверно. Нет никакого желания встретиться сейчас с отцом.
– Когда – то надо, Володя, с ним встретиться. Не откладывай на потом. Дождись администрации. Все будет у тебя хорошо, Володя. Я жду тебя.
– Спасибо, Лариса.
После разговора с нею, а и правда, легче ему стало дышать, от этого деревенского, утрешнего воздуха. Рядом с администрацией, недалеко, ухали, сброшенными листьями, вымахавшие тополя. Ветер, все же был. Он забыл надеть поверх свитера, куртку, потому чуть продрог. Пальцы у него даже онемели, от прохлады утра. Зябко повел руками по плечам, и не произвольно, зевнул. Сказывалось, видимо. В поезде он не спал. Всю ночь просидел у купейной стенки вагона, думая о всякой всячине, что взбредало ему в голову. То ему, казалось, письмо, который он получил якобы от мамы, кто – то сильно над ним пошутил. То, наворачивались, просто так, на глазах у него слезы. И потому ему было неудобно, перед другими пассажирами. Конечно, он старался прятать козырьком ладони, эти свои слезы, катящиеся у него из глаз. Измучился он, поэтому в поезде. А сейчас – т о, что делать ему? Выходит, как Моно Лиза посоветовала, надо ему, все же, дождаться администрации. Он ведь, от этой встречи с отцом, ничего не терял. А лишний раз, посмотреть ему в глаза, может это в дальнейшем, возможно и пригодится. Он же журналист, обязан знать, как другие, в этих непростых делах, ведут себя. Это ему и любопытно, да и знать, потаенные мысли отца, ему не вредно. Он же, не совсем уж пропавший, вроде. Понимает, видимо. Сын, все же он ему. И он, конечно, за неё, не откажется от него. Да это, было бы дико. Поэтому ему, он знает, не надо слишком волноваться, с этой вынужденной встречей с отцом.
Наконец, прошел мимо администрации, школьник, спешивший в школу. Следом, другие потянулись. Улица стала наполняться людскими голосами. Ожила деревня. Не умерла, оказывается, она еще. Замшелые либералы, со своими думскими законами, еще не совсем успели сломать её хребет. Вдали, у опушки леса, неожиданно грохнул колоколами, монастырская церковь. Звон его, долго еще эхом, ударялся по деревне. Выходит, время уже восемь. Сверился с часами и он, что у него на левой руке. Недолго ему теперь ждать. Это же не город. Там администрация начинает работать с девяти утра. А тут деревня… Но, видимо, и тут, изменились порядки. А пока он, что ж, встанет тут в сторонке у косяка, прислонившись спиною к двери, закурит свою очередную сигарету, до прихода администрации. Ему теперь, некуда торопиться. Дома, ему делать уже нечего. Там тоскливо без матери, пусто. А тут он, хоть понаблюдает, за жизнью своей деревни. Он же журналист. Может быть, очерк какой, о деревне напишет. Зачем ему терять время. Ну, и, что ему, чуть прохладно. Так всегда бывает по утрам. Скоро, выглянет солнышко. Потеплеет, может чуть. Хотя и осень, уже конец сентября, но лето еще не закончился. Лето сухая была, горели леса вокруг. Дождь, если и капнет вдруг на землю, зачем ему от этого бояться. Надо воспринимать, как она и есть. Так думает он сейчас, вдыхая вместе дымом сигареты, этот утрешний загустевший воздух. Тоскливо, конечно, ему тут одному. Ведь он человеком был, как мотор, бегающий, по утрам в редакцию газеты: на летучку, и в университет. Всегда был подвижным. А тут он, находился, как бы заглохший мотор. Стоит, сам не знает, зачем стоит. Добежать бы ему сейчас до отца, поговорить с ним, нет, прирос к этому косяку двери администрации. Непривычно ему тут, или ему только это, кажется? Сигарета выкурена. За следующим лазить в карман, а стоит ли ему это делать? Во рту у него, будто мухи «наследили» язык – горечь. Слюнки даже, у него загустели, от этого табака. Ему еще, после как переговорит с отцом, надо еще будет добежать до магазина, купить бутылку водки, а дома, помянуть маму. Но завтра, он точно уж, уедет. Казалось, невольно, он в своей малой родине, как бы чужой, как и гражданам сейчас, у этого сообщества. Родина, будто, а и правда, стала, для всех сегодня, мачехой. Поэтому, больше у него нет сил, торчать в своей деревне. Скорее бы в город, в университет, своим ребятам, к Моне Лизе. Надо ему, все же позвонить было и к Маринке. Как – то, не серьезно с нею он поступает. Знал он ведь её телефон. Кто его там, тормознул не предупредить, что он срочно уезжает в свою деревню? Или тот, конфуз, происшедший с ним, там по дороге в редакцию, или все же участь Моно Лизы, которая в то утро, не прошла мимо него. «Жизнь, такая она штука, не разберешь сразу», – говорит это вслух Куренков, закуривая свою очередную сигарету. Подкуривая сигарету, он услышал сначала голоса, идущие в его сторону людей. Потом, когда они вышли, из – за угла забора администрации, увидел по протоптанной тропе, впереди отца, следом, чуть отставшего от него, и эту Люду.
Выглядела она в это утро, даже не плохо. Даже красавицей её можно было принять. Высокая брюнетка, как и его отец. А он, почти под метр восемьдесят ростом был. Да и сам он, не маленького роста. В руке она держала, серую дамскую сумочку. В длинном сером плаще. Когда делала она шаг, её крепкие стройные ноги открывались. По сравнению с его отцом, конечно, она смотрелась шикарно для деревни. А отец его, был в своем же неизменном сером куртке. Он её, будто, никогда не снимал с себя. Брюки у него, хотя и были глаженные, но не сравнить же его было с нею. Да и лицо, не смотря, на его сорока пятилетний возраст, выглядел смиренно устало. Щеки припухшие, будто он набил в рот желудями, как бурундук, отвислые. А рот, какой – то брезгливый.
Такого отца он, конечно, не знал.
Во времена социализма, конечно, он был совсем другим человеком.
Знаете, такой, бегущий за волнами человек, было его представить тогда.
Как, вот, так меняется человек, когда он живет не свойственной среде. Ему все тут чуждо, выходит.
– О! – вскрикивает он, спотыкаясь в шаге, увидев тут сына. – Ты, когда приехал? Сын.
– Почему не дал телеграмму? – встречно задал он ему вопрос.
– Да он пожалел тебя, – вмешивается в разговор и эта. – Ты же там учишься. Не хотел он, оторвать тебя от учебы. Маму твою, уже не воскреснуть.
– Папа, я хотел бы переписать дома на себя и уехать.