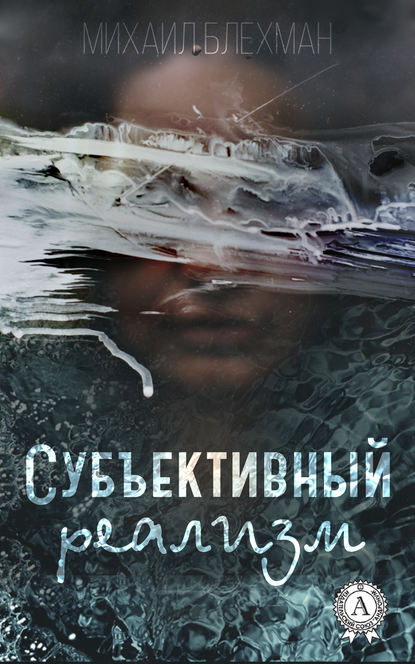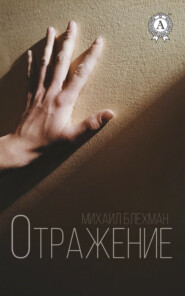По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Субъективный реализм
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Хорошо, назову, пусть никогда этого и не делаю. Тебе ведь нужно, чтобы героиня прочитала о тебе и узнала, верно?
Даниил пожал плечами:
– Она узнала бы и без имени, ты ведь напишешь всё как было, пусть это было далеко не только с нами Что же касается героини – героического в ней немного… Или не столько в ней, сколько во мне?
Не ответив на очередной звонок, я взял старинную новую ручку наизготовку и открыл блокнот. Хорошо, что чернила в ручке не заканчиваются – иначе что бы я делал с этим рассказом? Или с тем, чем это в действительности было.
– Разумеется, ничего героического. Если бы у слова «персонаж» была форма женского рода, я бы назвал её иначе. Но такой формы нет, а иметь дело с бесформенными словами я не люблю.
– Тогда, – панибратски хлопнул он меня по плечу, из последних сил стараясь выглядеть ироничным, – дай имя и ей.
Становилось ветрено. От нагловатого скуления ветра хотелось укрыться между строк блокнота, – но чтобы укрыться, строки сначала нужно было построить. «Создать» звучало бы слишком незыблемо, поэтому я взял его в кавычки, – может, и раскавычат когда-нибудь… Когда меня не будет на скамейке.
– Дам, – согласился я. – Её звали Светланой – звали и зовут, конечно, смена поясов на суть не влияет. «Даня и Света» – чем плохо?
Он кивнул, собираясь в дорогу, но чувствовалось, что он не считает имя сутью. Тем более что её имя не соответствует даже цвету её волос. Но так даже красивее, если вдуматься.
– Ну, рассказывай, – просительно приказал я. – Так и быть, запишу. Только боюсь, что у тебя, а значит у меня, получится очередная банальная история.
– Моя не банальна, – пообещал Даниил.
– Ещё бы! Так говорят все мои герои.
Он кивнул – то ли мне, то ли остальным:
– Они правы. Пусть в них и нет ничего героического.
А Света добавила:
2
И всё давным-давно просрочено,
и я молюсь, и ты молись,
чтоб на утоптанной обочине
мы в тусклый вечер не сошлись.
Для того чтобы, наконец, приехать, нужно сначала решиться уехать.
Когда уезжаешь, думаешь, что вот, уехал наконец, – а на самом деле едешь обратно. Вот только приехать оказывается намного сложнее.
Невозможнее…
Даня бросил монету – орёл или решка. Выпало – ехать, потому что на обеих сторонах монеты были одинаковые царапины, делавшие орла и решку неотличимыми друг от друга.
Дорога предстояла дальняя. Она началась тогда, когда он решил уйти, – не зная, что эта дорога уйти не позволит, как бы далеко он ни уходил.
Гнилым зубом мудрости ныла, пульсировала, колола, дёргалась память. Иногда – очень редко – чего-то не хочется так сильно, что невозможно сопротивляться этому желанию, вернее говоря, нежеланию. Даня помнил, что когда-то… – ему было ясно, когда именно… – он это чувство уже испытал. Точнее – намного точнее – оно испытало его. Идя к машине, он не думал об этом. Ведь разве можно сказать, что думаешь, если никакого другого чувства уже нет?
Шёл и думал, не замечая, что вовсе не думает, а просто ничего не замечает.
Оставил позади умоляюще морщинистый ствол векового дерева.
И только ли его?
Нить – да какая уж там нить! – нитка, и ничего в ней сурового, ничего связующего, – нитка разорвалась, и секунды упали, беззвучно зацокали по мостовой, по асфальту, по разбитому тротуару.
Задел что-то твёрдое, непоколебимое, наступил даже – и не заметил…
Сел в машину, раскрыл карту.
Названия города на ней не было.
Было другое: школьная игра: между первой буквой и последней ставят чёрточки, по чёрточке на букву. Кто не угадал, тому рисовали виселицу, на которую вешали ни на кого не похожего человечка… Если бы он был на кого-то похож – разве это была бы детская игра?
Всё равно – нашли, во что играть. Дались им взрослые игры.
Ох уж эти местоимения…
Даня – я назвал его, теперь поздно передумывать – Даня ехал, пытаясь разгадать буквы и не думая о том, что его ждёт позади. И ждёт ли что-нибудь…
Дорога извивалась весёлой купюрной буквой, колёса подминали под себя что-то неломающееся, нерастворяющееся от времени и непогоды. Машине, наверно, не было безразлично, но что же она могла поделать? Если кто и хозяин, то – барин, конечно. Вот он и ехал. Не по-барски, впрочем, не по-хозяйски. Просто ехал и ехал…
Совсем не старым уже сорванцом, не боясь сорваться, сорвать голос, смеялась на тысячи голосов старинная флейта. Музыкальные аккорды собрались в одну огромную светлую тучу, туча поднялась на заоблачную высоту, задержалась там, словно раздумывая о чём-то скорее небесном, чем земном, и рухнула на пересохшую, растрескавшуюся дорогу дождём нескончаемых звуков.
Ехалось неизбывно долго.
Вот, оказывается, в чём недостаток идеальной дороги: на ней нет колдобин, которыми можно было бы объяснить боязнь отправиться в путь.
Но как не отправиться, если едёшь по этой дороге с тех пор – с тех самых пор, не сворачиваешь, несмотря на неизбежные повороты и бесчисленные развилки, скользишь машинными шинами по совершенному в своей чуждой гладкости асфальту, лениво размягчившемуся под солнцем.
Если бы не асфальт, Света, возможно, и сказала бы напутственно:
3
День кончился. Что было в нём?
Не знаю, пролетел, как птица.
Он был обыкновенным днём,
А всё-таки не повторится.
Да нет, конечно, не в асфальте дело…
Возможно, в том, что он ехал к Свете с тех пор, как ушёл от неё.
Я назвал её по имени – теперь поздно передумывать.
Собственно говоря, он отправился к ней намного раньше – как только начал чувствовать, что уйдёт. Чувствовал, что уйдёт, но не чувствовал, что уже едет к ней.
– Ну да, «бросит» – неподходящее слово. Хорошо, совсем неподходящее. – Разумеется, она не окурок, и не взгляд.
Даниил пожал плечами:
– Она узнала бы и без имени, ты ведь напишешь всё как было, пусть это было далеко не только с нами Что же касается героини – героического в ней немного… Или не столько в ней, сколько во мне?
Не ответив на очередной звонок, я взял старинную новую ручку наизготовку и открыл блокнот. Хорошо, что чернила в ручке не заканчиваются – иначе что бы я делал с этим рассказом? Или с тем, чем это в действительности было.
– Разумеется, ничего героического. Если бы у слова «персонаж» была форма женского рода, я бы назвал её иначе. Но такой формы нет, а иметь дело с бесформенными словами я не люблю.
– Тогда, – панибратски хлопнул он меня по плечу, из последних сил стараясь выглядеть ироничным, – дай имя и ей.
Становилось ветрено. От нагловатого скуления ветра хотелось укрыться между строк блокнота, – но чтобы укрыться, строки сначала нужно было построить. «Создать» звучало бы слишком незыблемо, поэтому я взял его в кавычки, – может, и раскавычат когда-нибудь… Когда меня не будет на скамейке.
– Дам, – согласился я. – Её звали Светланой – звали и зовут, конечно, смена поясов на суть не влияет. «Даня и Света» – чем плохо?
Он кивнул, собираясь в дорогу, но чувствовалось, что он не считает имя сутью. Тем более что её имя не соответствует даже цвету её волос. Но так даже красивее, если вдуматься.
– Ну, рассказывай, – просительно приказал я. – Так и быть, запишу. Только боюсь, что у тебя, а значит у меня, получится очередная банальная история.
– Моя не банальна, – пообещал Даниил.
– Ещё бы! Так говорят все мои герои.
Он кивнул – то ли мне, то ли остальным:
– Они правы. Пусть в них и нет ничего героического.
А Света добавила:
2
И всё давным-давно просрочено,
и я молюсь, и ты молись,
чтоб на утоптанной обочине
мы в тусклый вечер не сошлись.
Для того чтобы, наконец, приехать, нужно сначала решиться уехать.
Когда уезжаешь, думаешь, что вот, уехал наконец, – а на самом деле едешь обратно. Вот только приехать оказывается намного сложнее.
Невозможнее…
Даня бросил монету – орёл или решка. Выпало – ехать, потому что на обеих сторонах монеты были одинаковые царапины, делавшие орла и решку неотличимыми друг от друга.
Дорога предстояла дальняя. Она началась тогда, когда он решил уйти, – не зная, что эта дорога уйти не позволит, как бы далеко он ни уходил.
Гнилым зубом мудрости ныла, пульсировала, колола, дёргалась память. Иногда – очень редко – чего-то не хочется так сильно, что невозможно сопротивляться этому желанию, вернее говоря, нежеланию. Даня помнил, что когда-то… – ему было ясно, когда именно… – он это чувство уже испытал. Точнее – намного точнее – оно испытало его. Идя к машине, он не думал об этом. Ведь разве можно сказать, что думаешь, если никакого другого чувства уже нет?
Шёл и думал, не замечая, что вовсе не думает, а просто ничего не замечает.
Оставил позади умоляюще морщинистый ствол векового дерева.
И только ли его?
Нить – да какая уж там нить! – нитка, и ничего в ней сурового, ничего связующего, – нитка разорвалась, и секунды упали, беззвучно зацокали по мостовой, по асфальту, по разбитому тротуару.
Задел что-то твёрдое, непоколебимое, наступил даже – и не заметил…
Сел в машину, раскрыл карту.
Названия города на ней не было.
Было другое: школьная игра: между первой буквой и последней ставят чёрточки, по чёрточке на букву. Кто не угадал, тому рисовали виселицу, на которую вешали ни на кого не похожего человечка… Если бы он был на кого-то похож – разве это была бы детская игра?
Всё равно – нашли, во что играть. Дались им взрослые игры.
Ох уж эти местоимения…
Даня – я назвал его, теперь поздно передумывать – Даня ехал, пытаясь разгадать буквы и не думая о том, что его ждёт позади. И ждёт ли что-нибудь…
Дорога извивалась весёлой купюрной буквой, колёса подминали под себя что-то неломающееся, нерастворяющееся от времени и непогоды. Машине, наверно, не было безразлично, но что же она могла поделать? Если кто и хозяин, то – барин, конечно. Вот он и ехал. Не по-барски, впрочем, не по-хозяйски. Просто ехал и ехал…
Совсем не старым уже сорванцом, не боясь сорваться, сорвать голос, смеялась на тысячи голосов старинная флейта. Музыкальные аккорды собрались в одну огромную светлую тучу, туча поднялась на заоблачную высоту, задержалась там, словно раздумывая о чём-то скорее небесном, чем земном, и рухнула на пересохшую, растрескавшуюся дорогу дождём нескончаемых звуков.
Ехалось неизбывно долго.
Вот, оказывается, в чём недостаток идеальной дороги: на ней нет колдобин, которыми можно было бы объяснить боязнь отправиться в путь.
Но как не отправиться, если едёшь по этой дороге с тех пор – с тех самых пор, не сворачиваешь, несмотря на неизбежные повороты и бесчисленные развилки, скользишь машинными шинами по совершенному в своей чуждой гладкости асфальту, лениво размягчившемуся под солнцем.
Если бы не асфальт, Света, возможно, и сказала бы напутственно:
3
День кончился. Что было в нём?
Не знаю, пролетел, как птица.
Он был обыкновенным днём,
А всё-таки не повторится.
Да нет, конечно, не в асфальте дело…
Возможно, в том, что он ехал к Свете с тех пор, как ушёл от неё.
Я назвал её по имени – теперь поздно передумывать.
Собственно говоря, он отправился к ней намного раньше – как только начал чувствовать, что уйдёт. Чувствовал, что уйдёт, но не чувствовал, что уже едет к ней.
– Ну да, «бросит» – неподходящее слово. Хорошо, совсем неподходящее. – Разумеется, она не окурок, и не взгляд.