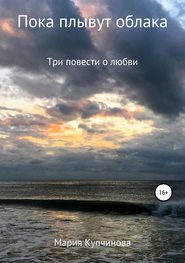По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Над Доном-рекой
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Степану Платоновичу пришлось объявить себя несостоятельным. Его это не очень расстроило: он давно забыл, что намеревался разбогатеть так, чтобы «куры денег не клевали», однако ударило по честолюбивым планам Елизаветы Александровны. Семья не бедствовала, проживая наследство, оставленное отцом единственной дочери, но Елизавета Александровна неизменно подчеркивала, что теперь они живут на её деньги, и любые траты мужа заканчивались семейными неурядицами.
Ростов поднимался словно на дрожжах и богател. Замес теста был крутым: табачные короли, владельцы пароходств и литейных заводов, торговцы углём и зерном, банкиры. А рядом, как это часто бывает, авантюристы всех мастей: щегольски одетые «марвихеры» – карманники, изящно экспрориирующие бумажники у зажиточной публики (Гришка Тертышный побился об заклад, что украдет портсигар у самого полицмейстера города – и выиграл, потратив на «дело» не более часа), ночные громилы сейфов с орудиями взлома, изготовленными на английских фабриках, стоившими немалых денег. Город переполняли приезжие: украинцы, греки, армяне, евреи, смешивались капиталы, возникали родственные связи. В городской управе появилась новая должность – «заведование постройками города». На неё пригласили двадцатидевятилетнего выпускника Московского училища живописи, ваяния и зодчества, Леонида Федоровича Эберга.
Вася, работавший в управе техником (пришлось вернуться домой, недоучившись), обрадовался встрече с бывшим однокашником, и взахлеб рассказывал Варе, как «мы, с Леонидом Федоровичем»… «Мы», было явным преувеличением, но Васю это не смущало.
***
В маленькой Вариной комнате близ Николаевской больницы Вася помещался с трудом. Ему обязательно надо было ходить и размахивать длинными руками – тогда хорошо думалось, а разговор, как Васе казалось, получался более занимательным. У Вари же наискосок, от этажерки, покрытой беленой салфеткой с прошвой, до кровати со столбиком подушек под накрахмаленной накидкой было всего пять шагов, а руками и вовсе нельзя размахивать, чтобы не зацепить какую-нибудь любимую Варину вазочку или не сбить ненароком с полочки лампу.
– Варь, к нам сегодня в бюро Дутиков пожаловал. Представляешь, почётный гражданин города – собственной персоной. Городовой перед ним дверь распахивает, в поклоне сгибается, еще бы: поставщик Двора Его Императорского величества… А поставщик тот: нос – уточкой, вернее, таким морщинистым старым селезнем, борода лопатой, на лысой голове три морщинки, и за столько же верст от него одеколоном несет. Мы, говорит, с братом подумали и решили расплатиться ваннами, – Вася всплеснул руками, захохотал.
– Варь, может, тебе нужна чугунная ванна с львиной мордой и на золотых лапах? Представляешь, красота какая: лежишь в пене, словно в утробе царя зверей…
Варя сидела за столом, подперев рукой подбородок, и умиленно смотрела, как резвится племянник, глотая один пирожок за другим.
– Доедай, Васенька, я еще принесу, – подвинула тарелку с пирожками так, чтобы Васе, вышагивающему мимо стола, легче было дотянуться. Молодой, энергии много тратит, а побаловать некому.
– Еще Чириков приходил. Такой расфуфыренный, волосики на прямой пробор набриолинил, усы щеточкой каждую минуту вверх закручивает, пальцы платочком протирает. Посмотрел проект, говорит: «Не хватает колонн в центре здания!» Леонид Федорович насупился: «Это же ренессанс!» А тот: «Не имел чести быть представленным этому господину, но прошу уточнить: деньги вам Ренессанс платит или я?»
Варя принесла новую порцию пирожков с капустой и картошкой, поставила перед Васей большую кружку с киселем, задумалась. Опять ночью долго не могла заснуть, а под утро – все тот же сон: будто выносит из дома Настёны что-то. И точно знает: её это, Варино. Всегда ей принадлежало, а стыдно так, будто крадет что-то. В дверях с Харитоном сталкивается. Он смотрит на неё чуть иронично, приподняв бровь, молчит… Проснулась – на сердце комок, и плакать хочется…
Глупо-то как всё это в их возрасте, потому и молчат оба. Глаза выдают, да разве глазам прикажешь. Неужто так бывает, что сердце – моложе человека? В людных местах вон объявления висят: «Просим почтенную публику следить за своими карманами и остерегаться воров», а тут… Сердце украли – никому не расскажешь, как страшно. Но радостно…
– Варя, ты меня совсем не слушаешь! – рассердился Вася.
– Слушаю, милый, слушаю.
– Ну, что я говорил?
– Что Николай особняк заказал на Пушкинской. В стиле… забыла слово, Васенька, – послушно откликнулась Варя.
– В греческом стиле, неоклассицизм называется. Но я уже давно о другом толкую.
Вася наконец присел к столу, взъерошил и без того разлохмаченные длинные волосы, смущенно заглянул Варе в глаза:
– Я, Варя, писать хочу. Смешно, да? Меня, знаешь, по ночам слова иногда захлестывают просто, одно на другое нанизывается, и так складно получается… а утром пробую на бумагу занести – не выходит. Я бы хотел для начала про семью написать нашу. Про Аглаю Фроловну. Я не помню ее, но ты мне так много рассказывала про бабиньку, да про то, как сама девчонкой была… Помнишь, рассказывала, как первый раз босиком на Дон убежала? Какой мягкой, шелковистой трава была? Я и название уже придумал: «Над Доном-рекой…». Как думаешь, Варя, подошло бы? Или слишком красиво?
– Не знаю, Васенька, не разбираюсь я в этом. Вот ты сказал сейчас, и правда вспомнилось, как ступали по траве босые ноги… да как тюльпаны степные по весне под ветром кланялись. И горький запах полыни, и столбики люпина на пригорке…
Правду сказать, неброский люпин как-то по-особенному был мил Вариному сердцу. И розетки его остроконечных узких листьев, и гроздья милых лиловых цветков, словно приоткрывших губы в ожидании поцелуя. Эти мысли, казавшиеся Варе фривольными, смущали её. Но более всего сердце тревожила белая шишечка нераскрывшихся цветков, венчающая растение. Словно это её душа могла бы распуститься цветами в горячей любви, да засыхала безвременно…
Варя встряхнула головой, отгоняя непрошенные мысли:
– Бабинька-то более душицу любила. Бывало, высушит, в подушку положит, дескать, сны легкие она привораживает… А ты пиши, Вася, пытайся…
Год 1919, канун Рождества
Где-то совсем близко раздалось несколько ружейных выстрелов. Варя вздрогнула, втянула голову в плечи, крепче прижала к груди брезентовую сумку и попыталась идти быстрее, хотя ботиночки с тонкой картонной подошвой предательски скользили по заледенелому тротуару.
Промозглая чернота, разлитая по улицам, точно кто-то там, наверху, перевернул ненароком огромный бак с адским варевом, становилась еще темнее от мелькнувшего огонька папиросы; свист ветра заглушал шаги, редкие прохожие казались призраками, а скукоженные точечки звезд прятались за чёрные тучи, не желая со своих высоких небес смотреть на то, что творится внизу.
Эти предрождественские дни были так не похожи на прошлогодние, что не верилось, будто и в правду была когда-то праздничная суета, радостное сияние огней, рождественское изобилие магазинов, пироги да блины, которыми с шутливыми присказками торговали разбитные мальчишки-разносчики и, главное, уверенность: скоро всё наладится, жизнь станет прежней.
А сейчас – фонари не горят, звук шагов за спиной вызывает страх: то ли большевики уже вошли в город, то ли бандиты…
Варю обгоняют согнутые тени, впряжённые в сани, гружёные котомками да мешками. Ни одного встречного: все – к Дону, в надежде успеть до прихода красных перейти реку по льду. Говорят, в Батайске Добровольческая армия закрепилась надолго. Говорят, говорят… Верить, конечно, хочется, а как оно там будет… Варя поправила серый шерстяной платок на голове, вздохнула.
Несколько дней назад в больницу приезжал генерал. В чинах Варя не разбиралась, но, судя по тому, как суетился перед ним главврач, как кивал головой:
– Всё сделаем, Александр Сергеевич, не сомневайтесь, – генерал был важным.
Обветренное, почти багровое лицо генерала, серые прищуренные глаза, спрятанные за очками с круглыми стеклами, не выражали никаких чувств, но Варе все равно казалось: ему зябко в распахнутой шинели из солдатского сукна на малиновой подкладке. Распахнутой специально, чтобы все увидели серебряный терновый венец с мечом на георгиевской ленте[8 - приказом генерала Деникина такой знак вручался всем участникам Первого Кубанского (ледяного) похода]. Знак этот словно давал генералу моральное право на тот приказ, который он привёз: эвакуировать медицинский персонал и, на усмотрение врачей, часть раненых вместе с отступающими воинскими соединениями.
Главврач принял решение эвакуировать среднетяжелых. Тех, кто наверняка выдержит переезд на подводах до Батайска, где стоит санитарный поезд. Раненые, которые могли ходить, ушли пешком, с тяжелоранеными, которые были в сознании, Варя и другие медсестры боялись встречаться глазами: такое отчаяние читалось на их лицах.
Никто не знал: доберутся ли раненые до Батайска и что их там ждет, но всем казалось: уже сейчас проходит деление на тех, кому суждено выжить, а кому – нет.
Сегодня они тоже весь день ожидали транспорт, а поздним вечером Варю подозвал врач в застиранном медицинском халате. На худом, посеревшем от постоянного недосыпания лице, выделялись крупный нос, тонкие губы с когда-то элегантной щеточкой усов да тяжелые мешки под выпуклыми черными глазами:
– Варвара Платоновна, ждать нечего, подвод больше не будет. Я назначил врачей и сестер, которые останутся в палатах с тяжелоранеными, а вам лучше уйти. Вы сделали всё, что могли. Слышал, у вас есть племянник?
– Да, Николай Алексеевич.
– Вот и уходите, пока не поздно, с ним за Дон. С мужчиной – надежнее.
Врач этот был хирургом – от Бога. Четыре года назад он переехал в Ростов с Варшавским университетом, в прошлом году стал заведовать клиникой госпитальной хирургии в Донском университете. И теперь у Вари не укладывалось в голове: как она, простая сестра милосердия, уедет, а он останется, быть может, погибнет…
– Но… как же вы?
Николай Алексеевич резко отвернулся, заканчивая разговор:
– Поторапливайтесь, Варвара Платоновна. Мы – как Бог даст. Может, обойдется…
Обойдется… За последние два года власть в городе менялась часто. В начале восемнадцатого – два с половиной месяца правили Советы. Варя наизусть выучила рассказ невестки, как ночью в дом ворвалась вооруженная группа солдат с требованием сдать золотые монеты и драгоценности. Елизавета Александровна, рассказывая, каждый раз начинала всхлипывать, тереть кружевным платочком глаза, причитать:
– Всё перерыли: в комодах, шкафах, в любимом бюро Степы каждый ящичек простучали: двойные стенки искали, перины перещупали, даже пианино не пожалели, – в этом месте Елизавета Александровна начинала победоносно улыбаться, – а то, что я драгоценности, оставленные батюшкой, в лифчик Ленке, горничной, засунула, у той грудь в три раза выросла – не догадались. Я так и думала: свою они не заподозрят.
Люди шептались: в районе Балабановских рощ каждый день находили десятки расстрелянных. Стреляли и на улицах. За что? Иногда просто так: померещилось что-то недоброе во взгляде… Красных сменили немцы, потом красновцы, вернулись добровольцы после Ледяного похода. А в Балабановских рощах опять расстрелянные, и на Большой Садовой повешенные на столбах. Говорят, епископ Арсений лично звонил коменданту города, прося убрать с центральных улиц трупы повешенных большевиков накануне Рождества.
Обойдется? Прав был Вася: вековая ненависть с одной стороны и вековое презрение с другой… Кто их примирит…
Вася приехал из госпиталя летом семнадцатого. Уходил на войну романтично настроенный юноша, вернулся – угрюмый мужчина в выгоревшей гимнастерке. Левый рукав выше локтя подвернут и заколот булавками.
Степан не дождался сына: в начале шестнадцатого года тяжело заболел воспалением легких и уже не поднялся с постели, угас. Елизавета Александровна поначалу сыну обрадовалась, но сумрачный, вечно небритый, с провалившимися щеками, он мешал ей бездумно радоваться окружающей жизни, смущал и скептическим отношением ко всему тому, что казалось Елизавете Александровне важным, и своим увечьем, которое Елизавета Александровна не хотела принимать.
Привыкнув за годы войны к бесконечным раненым, Варя не вздрагивала при взгляде на пустой рукав, в отличие от невестки бесконечно не причитала: благодарила Бога, что племянник вернулся живым. Васе с ней было легче, хотя и Варю он сразу предупредил:
– Не спрашивай, ладно? Воевал – как все, не лучше, не хуже. Когда-нибудь, быть может, расскажу, но не сейчас.