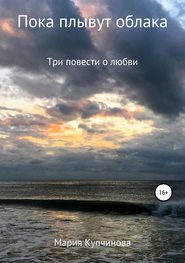По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Над Доном-рекой
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Баржи, барки, парусники, пароходы… Погрузка, разгрузка…
А вот и пароход, построенный на городских судоверфях: по бокам – огромные гребные колеса, закрытые металлическими кожухами, высокая чёрная труба. Капитанский мостик высится над палубой, прикрытый лёгкой железной крышей. Пассажирские помещения первого класса в трюме парохода, ближе к носу. Там мягкие диваны, ковры…
По трапу поднимается дородная женщина в пёстром платье, узорчатой шали, прикрывающей плечи и шляпке с цветами. В одной руке она держит саквояж и зонтик, другой тянет упирающуюся девочку лет трех-четырех в белой шерстяной матроске. Девочка все норовит вырваться из рук матери, убежать, а та сердито выговаривает малышке. Замыкает шествие худой высокий мужчина в кожаной тужурке. Картуз прикрывает раннюю седину. Мужчина тоскливо оглядывается по сторонам, а заметив одинокую женскую фигуру, приближающуюся к пристани, сдергивает картуз и быстро, словно кто-то пытается задержать его, сбегает по трапу.
– Варвара Платоновна, вы кого-то ищете?
Варя с усилием поднимает голову, отрывает взгляд от мостовой, смотрит прямо в глаза Харитона. За длинными, вздрагивающими ресницами – влекущий черный агат ее глаз.
– Да.
– Степан Платонович велел что-то передать?
– Нет, он только сказал: вы с Настёной уезжаете…
Прошло более полугода с их последней встречи. В этой молодой женщине нет ничего от той яркой Вареньки, когда-то поразившей воображение Харитона: узкая тёмная юбка до щиколоток, на плечах – клетчатый плед, под ним простая коричневая блузка с белым воротничком.
– Степан Платонович заказал пароход на заводе Пастухова. Спустят на воду – буду ходить из Одессы в Ростов. А пока открываем в Одессе агентство по приёму и сдаче грузов, – Харитон сдерживает вздох, отводит глаза.
– Поймите, Варвара Платоновна, не могу я оставаться в Ростове. И простить себе Дашенькиной смерти не могу. Анастасия Алексеевна простила, а я – нет. Если бы той ночью не наклонился над кроваткой, не поцеловал её… Может, бегала бы сейчас, как Дуня.
– Нет ни в чём вашей вины, Харитон Трофимович, – возражает Варя, – так судьба распорядилась.
– То лишь Господь знает.
Сердце Харитона сжимается так, что кажется, этакой боли и вытерпеть нельзя. Когда-то он поверил нахальному Митьке, что счастье возможно. Надо было только выжить и ничего не бояться. Тогда он ещё не знал о Дашеньке. Глупый воробьишка, как ты пережил зиму? Тебя ещё не съели дикие камышовые коты?
– А вы, Варвара Платоновна? Слышал, компаньонкой сестры Елпидифора Тимофеевича стали?
– Скорее сиделкой, – Варя грустно улыбается. – Петя, заваленный подарками, быстро забыл о той истории, похитители ведь, к счастью, только пугали, что закопают мальчика. А мать не смогла пережить потрясения: постоянные страхи, нервные расстройства, душевная болезнь…
– Но вы ни в чём перед ней не виноваты и ничем не обязаны…
– Просто мне её жалко, – пожимает Варя плечами.
В непрекращающийся гвалт портовых звуков вписывается низкий пароходный гудок.
– Варвара Платоновна, разрешите поцеловать вам руку.
Харитон низко склонился над узкой ладошкой, и сердце Вари задрожало от нестерпимого желания прикоснуться губами к волосам с седой прядью. Испуганно отдернула руку, пошла, почти побежала: «Стыд-то какой, женатого мужчину провожать пришла».
В глубине души Варя точно знает: то, что привело ее на пристань, важнее приличий. Пусть ни слова не сказали друг другу, ниточка, протянувшаяся между ними в холерном бараке – на всю жизнь, от этого уже никуда не денешься.
Харитон долго смотрел Варе вслед. А когда вернулся на пароход, встретился с жестким взглядом Настёны:
– Не по чину разогнались, Харитон Трофимыч. Барыня – она завсегда барыней останется.
Новый век
Двадцатый век встречали с надеждой и верой. На балах гремели оркестры, отплясывали мазурки и полонезы… Развевались по роскошным паркетным полам шлейфы платьев прекрасных дам, блестели эполеты и ордена на офицерских мундирах, белели манишки под форменными сюртуками чиновников… Веера, перчатки, лорнеты, почти обязательные цветы на женских декольте да трогательные бархатки с бриллиантами на тоненьких шейках барышень…
В Асмоловском театре в новогоднюю ночь давали оперу «Трубадуръ». Участвовали госпожи Ван-дер-Вейде и Селюк-Рознатовская, господа Виноградов, Порубиновский, Добчинский, а также несравненный Пиетро Феррари. По окончании спектакля – маскарад с танцами и живыми картинами. Вот куда стремилась блестящая публика. Тем более, что «цены – обыкновенные».
Рассудительное купечество предпочитало театру рестораны. Столики заказывали заранее. Сложнее всего попасть в ресторан при Гранд-Отеле на Большой Садовой. Реклама без ложной скромности обещала первоклассную «французскую, русскую и кавказскую кухни, а также вина лучших заграничных, русских и кавказских фирм»… Одни названия блюд чего стоят: омар свежий с соусом провансаль, стерлядь по-русски, карп донской, форель азовская, уха ершовая с расстегаями, пулярда ростовская, рябчики в сметане с брусничным вареньем, телячья голова под белым соусом да молочный поросенок, фаршированный гречневой кашей… С французским шампанским соперничает не менее дорогое донское «Раздоровское», громыхает оркестр, мужчины блистают тостами в честь нового века, здравицами в адрес женщин, которые все кажутся молодыми и стройными… Чего только не наобещает новогодняя ночь, какими чудесами не поманит…
Васеньке с Петей все эти деликатесы и чудеса без надобности. Первый раз их отпустили встречать Новый год (новый век!) без родителей, под присмотром Петиного кузена. Николай для четырнадцатилетних мальчишек – предмет поклонения, они повторяют каждое его слово, копируют в одежде, стрижке, перенимают жесты…
В Нахичеванском городском театре в новогоднюю ночь дается пьеса «из кафе-шантанного мира «Позолоченные люди». Что это за чудо такое «кафе-шантанный мир» мальчишки понятия не имеют, но надеются: что-то «полуприличное»…
На конке ехать почти час, да еще с пересадками, зато веселее, чем на извозчике, правда за карманами следить надо: пассажиры – народец ушлый. Того и гляди, потеряешь больше, чем найдешь. Главное, чтобы снег рельсы не замел. Тогда уж извозчики за всё отыграются, да пока редкие снежинки тают быстрее, чем до земли долетают. Зима в Ростове, почитай, ещё и не начиналась толком.
А в Екатеринодаре, Николай сказывал, электрический трамвай пустили. Вот, наверно, здорово на таком прокатиться. В газетах писали: скоро и в Ростове будет.
После спектакля и в этом театре в фойе маскарад с живыми картинами, но Николай провел мальчишек за кулисы, постучал в дверь гримерной. Выглянула певичка. Мальчишки хоть взоры и потупили, да исподлобья все равно косятся на большую, едва прикрытую чем-то прозрачным грудь, чувственные ярко накрашенные губы, дерзкие лукавые глаза. Шансонетка оглядела с ног до головы посетителей: все трое в новомодных кургузых пиджачках с удлиненными лацканами, брюках в темно-серую полоску, у старшего – острая бородка, подкрученные вверх усики. Всплеснула руками:
– Боже праведный! Какие мужчины ко мне! Уж и не знаю, сумею ли устоять.
И звонко расхохоталась, увидев, как лица мальчишек превратились в две бордовые свёколки. Николай приобнял спутников за плечи:
– Простите, госпожа Свободина, разрешите пройти: мы с друзьями туда, где читают умные книги.
Степану Платоновичу и в голову не приходило, что сын Елпидифора Тимофеевича, одного из самых состоятельных людей города, может научить Васеньку чему-то крамольному.
Да и кто мог предположить, что Николай, этот вполне благополучный щеголь и ловелас, подмигивающий любой проходящей барышне, уже дважды отсидел в тюрьме по политическим мотивам. Первый раз как участник студенческих беспорядков и за попытку организации панихиды по погибшим на Ходынке, год спустя – за хранение нелегальной социал-демократической литературы.
После полутора месяцев тюрьмы будущий юрист был отчислен из Московского университета и выслан по месту жительства отца под негласный надзор полиции. Получать образование пришлось экстерном в Киеве.
***
Было в том праздновании нового века что-то поспешное, лихорадочное: казалось, надо ухватить именно сегодня, сейчас, потом будет поздно. Почему?
Видно, и вправду «подгнило что-то в Датском королевстве», хотя до пляшущих на балах запах гнили еще не доходил. Его ощущали души восприимчивые. А недавно открытый в Михайловском дворце Русский музей императора Александра III уже приобрел картину молодого талантливого художника Николая Рериха «Зловещие»… На развалинах чего сидят эти черные вороны, чего ждут-поджидают?..
Оно конечно, художники – фантазеры, и век начинающийся – велик своими открытиями, а что душам тревожно… Так на то они и души, чтобы тревожиться да опасаться.
Октябрь 1905 года
Кажется, только праздновать закончили, смотришь: пять лет минуло. Время, оно такое: хочет – летит, хочет – на месте топчется, смотря чего ждешь от него. Хуже, когда то, чего не ждешь прилетает… Хохочет тогда над людьми не Время, ехидное времечко, приговаривает: «Могли бы и предвидеть, что делали, да увлеклись, видать… Не рассчитали.»
Степана Платоновича раздражало решительно всё: красная плюшевая обивка дивана, на котором он сидел, зловредная муха, бившаяся об оконное стекло, хотя на улице уже октябрь, репродукция «Острова мертвых» Беклина в дубовой раме, которую Лиза водрузила вчера на стену… Подумаешь, кипарисы… чем они лучше, чем фикус у окна? Когда-то на этом месте бабинькина икона висела. Так нет, помешала. Пришлось Варе все иконы забрать к себе. Лизе-то лишь бы оклад был серебряный, а что там изображено – не суть важно: лоб по привычке крестит… Нет, конечно, иконостас с лампадой висит на своем месте, да разве в том вера… И Варя задерживается. Как открыли два года назад на средства Елпидифора Тимофеевича в Николаевской больнице приют для душевнобольных, она вроде и совсем туда переселилась. Не женское дело, бабинька против была бы, да коли Варвара себе что вобьет в голову, разве её остановишь. А девчонкой в станице – смирная была, покорная.
Не выдержал Степан Платонович, с усилием поднялся с дивана (возраст, как ни крути, дает себя знать), размахивая газеткой попытался убить муху. Надо же! Как раз императорским Манифестом от семнадцатого октября, дарующим свободы, муху-то и прихлопнул… Видать, не для мух свобода пришла, ишь, размечталась: на волю её выпусти… Шутки шутками, но что же теперь будет, господи, неужто и вправду конец неограниченной монархии пришел? Да может, еще государь одумается…
А на улице что творится, помилуй боже! Степан Платонович приник к окну, затем с ужасом отшатнулся. С криками «Бей жидов!», руганью, в доме напротив толпа била стекла. Со второго этажа что-то тяжёлое летело под ноги и на головы нападающим. В озверевшей толпе береговые рабочие в рваных поддевках да картузах, извозчики в армяках с жёлтыми кушаками, а с ними и чистая публика – в пальто да шляпах. Эти уж и вовсе не поймешь кто… Портреты с изображением Николая вперед выставляют, ими же в стекла тычут. А из окон первого этажа уже огонь выбивается. На другой стороне улицы – конные казаки. Они почему-то не вмешиваются, может, боятся зацепить кого нагайками…
Степан Платонович ощутил, как липкий страх заползает под сорочку: безумие – болезнь заразная, чем ее остановишь.
Горничная осторожно тронула Степана Платоновича за рукав: